Бурса
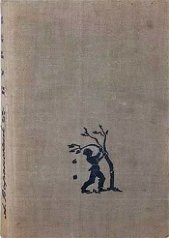
Бурса читать книгу онлайн
Автобиографический роман А. К. Воронского, названный автором «воспоминаниями с выдумкой». В романе отражены впечатления от учебы в тамбовских духовных учебных заведениях.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я больше не выходил на полотно дороги… У меня хватило сил преобороть искушение. Я убеждал себя, что не подстать мне, тугу-душителю, иметь дело «с девчонками», бабиться, распускать нюни.
В отдалении, из-за кустов, наблюдал я иногда за казаком, за Елочкой и Хозаровичами, как гуляли они. Показалось, Рахиль все поглядывала на тропу, по какой я обычно ходил… Казаку на его вопросы, почему я не гуляю, я отвечал, что занимаюсь по арифметике. Дни шли за днями и все более невозможной представлялась встреча с Рахилью.
…В те дни я вспомнил разговоры и беседы Михал Палыча, встречи с Иваном Петровичем, вспомнил Надежду Николаевну, опять взялся за Некрасова, прочитал Решетникова и Засодимского и стал внимательней приглядываться к деревенской жизни. Многое забытое и полузабытое из раннего детства по-новому представилось мне тогда.
…Еще при отце слышал я на кухне рассказы о борзых, о гончих в имениях Унковских и Петрово-Соловово. На своры тратились крупные суммы. Покупались, продавались, менялись необыкновенные, чудовищные волкодавы. Собаки имели древнейшие родословные, более разработанные, чем история целых округов. Знаменитые кобеля и суки гремели на губернии. Окрестным крестьянам от них не было ни прохода, ни проезда; собаки рвали одежду, терзали, увечили, на владельцев их негде было искать управы. Однажды спущенная свора набросилась на стадо овец и перегрызла добрую их половину. В селе то-и-дело передавали: Ивана Беспалых собаки у именья сильно потрепали, а у Плотниковых чуть-чуть не загрызли трехлетнего Петяшку. Немудрено, что мне тогда казалось, будто барские собаки — главная напасть на селе.
Голодный девяносто первый год тоже я не забыл. Над родным селом, над соседними деревнями в ту пору нависла хмарь. Черная оторопь бродила по полям, по хатам, по гумнам. Избы стояли с раскрытыми верхами, в распахнутые, кривые ворота виднелись пустые дворы. Дырявые плетни повалились. Изможденная скотина еле передвигала ноги. Почти ежедневно мимо нашего дома проносили в церковь гробики с детьми. Мужик нес гроб, охватив рукой и подвязав его через плечо полотенцем; шел спокойно, истово, без шапки, изредка движением головы или черной от работы рукой сбрасывая с глаз ветром тронутую прядь волос, остриженных в скобку. Убивалась, причитала мать; плелась древняя старуха. В буруны, во вьюжные ночи на колокольне тревожно и низко гудели от ветров колокола; сторож отбивал часы, а на другой день истощенных, изморенных голодом людей находили окоченевшими где-нибудь поблизости у омета, около гумна, в нескольких шагах от большака. Заносило целые обозы, а хаты засыпало до печных труб.
Пришел холерный год. В селе у нас холерных случаев было немного, но опять я видел, мимо нас все носили гроба, большие, длинные, от них веяло ужасом. Рассказывали: «утречком» в деревне Вознесенске Пахомовна вышла полоть гряду, а ее и схватило, зачало корежить. Помучилась Пахомовна да тут же, между гряд, и преставилась. Говорили о, вымерших семьях, о заколоченных хатах, о целых опустошенных деревнях, о «дохтурах» и «скубентах», отравителях воды в колодцах. Появилось множество бесприютных стариков, старух, детей. Ночью во сне мерещились кладбища, могилы, залитые негашеной известкой, скрюченные, сведенные в страшных судорогах тела…
Припомнилось: по дороге к родным мы проезжали деревней. Вместо хат торчали печи с почерневшими трубами, подобные верблюдам. Валялись бревна, слеги, доски, все обгорело, было черным-черно. Деревня пустовала.
— Что это, дядя Иван? — спросил я возницу.
Иван помахал кнутовищем, равнодушно ответил:
— Известно, стало быть погорели. Дочиста, дотла.
— А мужики где?
— Кто помер, а кто по людям пошел… Свет велик…
Я удивился спокойному тону Ивана.
…Во всем, что виделось мне теперь в деревне, было вымороченное, обреченное, донельзя тоскливое и незащищенное. Повсюду чувствовалась эта беззащитность. У Петровых сынок Ванятка заболел и умер от каких-то необычайных нарывов на всем теле. У Сеньки «захватило» горло, и тоже его уже стащили на погост. У Дуняшки в ухо «авчерась» заползли тараканы и она ревмя-ревет, а ее братишка Васятка лежит в огневице. Где же справедливость? Как бог допускает все это? И я все больше и больше терял в него веру свою.
Но также я видел: беззащитность господствует не у всех. Я, мои сестры и братья, мои родные жили не столь беззащитно. Мы жили куда лучше мужиков. Еще лучше нас жили купцы на базаре, хлебные торговцы, а лучше нас и купцов жили помещики.
В лавке купца Федорова, куда я заходил купить безделицу, заставал я плюгавого мужичонку в рваном полушубке, с торчащими клоками грязной шерсти. Мужичонка, низко подпоясанный грязным кушаком, мял шапку, упрашивая Федорова сделать «божескую милость», подождать «с деньжонками» «самую малость», иначе ему, хозяину, приходит «прямо зарез» — однова дыхнуть. Федоров по «хозяину» скользил холодными голубыми глазами и ничего не отвечал. Приходил покупатель, приказчик отпускал товар. Федоров, если покупатель из почтенных, вел с ним неторопливую беседу и, казалось, совсем забывал о мужичонке.
— Чего тебе? — обращался наконец Федоров, словно впервые его увидев.
— Насчет послабленьица… Явите…
— Уговор помнишь?.. Денежки счет любят… Прикрой за собой дверь-то со двора… Со двора, говорю… Эх, непонятливый какой…
Мужичонка брел по базару с серым лицом.
Насчет понятиев у них не ищите, не полагается, — говорил покупатель в чуйке, подлаживаясь к Федорову.
Федоров не спеша полными пальцами в кольцах и перстнях стучал на счетах.
Купцов наших я возненавидел с детства. Противны были их долгополые кафтаны и сюртуки, суконные поддевки, дубленые тулупы, расчесанные бороды, сквалыжничество, елейность, воздыхания, поминовения, продажа гнилого товара.
Наперекор купечеству, хлебным торговцам вставал передо мной величавый и спокойный образ Назара Пашкова. Жил он от нас верстах в трех, в небольшой деревеньке, было Пашкову за семьдесят, но выглядел он еще крепким. Кряжистый, дородный, высокого роста, плечистый, с окладистой во всю грудь бородой, всегда чисто одетый, он подчинял себе людей ладной, в себе уверенной осанкой, неторопливой, рассудительной речью, размеренными движениями. Он был женат в третий раз и, указывая на четырех рослых ядреных и работящих сыновей, добродушно шутил:
— Еж-е, переживу их всех, с последней хозяйкой в придачу.
Жил он небогато, но в достатке. У него не делились, семья насчитывала около сорока душ.
— Густо, еж-е, густо…
Приветливый и гостеприимный, он ни перед кем не заискивал, ни у кого не одолжался; начальство недолюбливал, с купцами не дружил, а помещиков считал непутевыми. Только добро людское мотают.
В саду Пашкова от наливных румяных яблоков в два мужицких кулака ломались ветви; груши-баргамот были прямо объядение, пасека, парной сотовой мед — всего хватало. Мед подавали гостям в расписных чашках вместе с душистыми ломтями хлеба, выпеченного на поду.
Казалось, Пашков все испытал, все узнал, ему нужное, нечем удивить его, все он обсудил, взвесил, правдивый, честный и мудрый. Он заставлял почтительно себя слушать, и я иногда замечал, что даже Николай Иванович, человек самолюбивый и гордый, с Пашковым обращался, как со старейшим, и даже благословлял его по-особому истово.
Пашков был обломком старого натурального деревенского уклада. «Чугунка», базар, хлебная ссыпка этот уклад разрушали. Базар с каждым годом отстраивался, протягивались новые «концы», появлялись новые люда, оборотистые, дошлые, с бессовестными глазами, с наглыми взглядами. Чуйки, поддевки, старомодные сюртуки до пят, похожие на лапсердаки, сменялись пиджачными парами, шубами на лисьем меху. Мелкая торговля уступала место крупным оборотам. С завистью рассказывали, как в уезде хлебный торговец Урюпинов за одну осень на пшенице, проданной за границу, схватил «куш» около ста тысяч, а торговец Финогенов тоже изрядно набил карман на овсе. Один стал торговать баскунчакской солью, отправляя ее вагонами, другой скупал лес на корню, третий выгодно, за бесценок приобрел помещичье имение, четвертый «обладил» в соседней округе кирпичный завод.

























