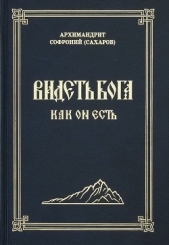Это мы, Господи, пред Тобою

Это мы, Господи, пред Тобою читать книгу онлайн
Воспоминания о репатриации казаков из Австрии в июне 1945 года, о лагере в Сибири. Автор — активная участница и одна из организаторов невооружённого сопротивления казаков против их насильственной выдачи англичанами в руки советских властей.
Евгения Борисовна Польская (в девичестве Меркулова) родилась в г. Ставрополе 21 апреля 1910 г. в семье терских казаков. Ее муж Леонид Николаевич Польский (1907 г.р.) был сыном Ставропольского священника Николая Дмитриевича Польского. В 1942 г. после немецкой оккупации супруги Польские в числе многих тысяч казачьих семей уходили на запад. В 1945 г. были насильно «репатриированы» обратно в СССР, как власовцы. И хотя в боевых действиях против «союзников» они не участвовали, Евгения Борисовна получила 7 лет лагерей, ее муж — 10. К концу жизни ею были написаны воспоминания «Это мы, Господи, пред Тобою…», в которых она описывает послевоенную трагедию казачества, а вместе с ним и всего русского народа, всей России… Скончалась Евгения Польская 18 января 1997 г.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
С двумя деревянными ведрами-ушатами боком протискиваюсь в щель того, что весною окажется дверью. Ах, все-таки на валенок плеснуло! Но зато бычок стоит смирно, сжевывая обмерзшие соломки, которые я сообразила кинуть ему, пока прорубала вход.
Я радуюсь бычку. Он скашивает на меня выпуклый мутно-красноватый глаз и вдруг, фыркнув теплом, добрым, мягким, широким, как все мое лицо, языком лижет мою посолоневшую от пота щеку и место под носом, которое я от холода давно уже не ощущаю! Милый, совсем не страшный ласковый бычок! Как хорошо было бы нам вдвоем, если б не стужа, не этот звеняще-льдистый мир, куда нас закинул рок.
Десять раз ныряю я в дыру, натужно подымая ведра вверх, выливаю недобрую эту звонкую воду в квадратное отверстие бочки и, легкомысленно оставив ведра в избушке — ведь надо съездить еще и еще — (не украли их только по особой милости ко мне судьбы), говорю ласково «Ча-ча-ча!». Зверь кивает головой, лижется, но желания двинуться не обнаруживает. Масть его уже нельзя разглядеть под сединами укрывшего шерсть инея. Он недвижен, как снежный памятник общего нашего с ним страдания. Может быть, дремлет, может, загрезился о мире со сверкающим солнцем, о цветущих лугах, полных теплой искристой от влаги травы. Бывает ли такое на свете? Кажется в те минуты, что ничего такого никогда не было и не будет. В арлюкские ночи и меня мучили сны: южные розы с тяжелыми бархатными лепестками, покрытыми крупными, свежими каплями росы. Я задыхалась от их сладкого запаха, просыпалась… Пахло не розами.
Обнимаю товарища за шею, уговариваю идти, тяну за рога, проверяю, уж не примерзли ли сани. Нет: очень уж старалась не подплеснуть под полозья. Недвижен.
— Ишак проклятый! — выйдя из себя, кричу ему все известные мне удобопроизносимые конечно, бранные термины, вплоть до слова «педераст», вошедшего в лагерную моду после разделения полов. Окоченелой рукой колочу по бокам, облезлым и впалым.
Они гудят, сыплется иней, обнажая грязную шкуру, но тварь ни с места.
Вспоминаю «Тройку» Перова и только теперь оцениваю достоинства картины и ее колорита, картины, которую прежде считала произведением посредственным. И завидую тем детям; они тащили сами, а я завишу от немыслящего зверя!
Безмолвие ледяного цилиндра, на дне которого идет моя битва с упрямцем, нарушено шорохом шагов. Из траншеи появляется женщина во вскинутой на голову телогрейке, в чунях на босу ногу.
— Где же вода?! — вопит она, добавляя трехэтажную брань. — Опять стал, пидарас, зараза! У, шкура! — Она сильно бьет бычка по дремлющим кротким глазам, лающе, хрипло несколько раз матерится, громче, громче, — чудо! Бычок зашагал. Кухонная женщина смеется:
— Эт, скотину и ту приучили, без матюков не идет с полной бочкой. Ты его, как опять станет, матери на чем свет, да погромчей: он глухой, совсем старый, иначе не потянет… — Ее совет уже эпически спокоен, она убегает, постукивая чунями.
Бычок, холодный, как сугроб, на подъемах медленно и осторожно кладет клешневатые разбитые копыта на застылую землю, и она отзывается скрипом саней, мерным их постукиванием на кочках: крап, крап! На спусках, толкаемый санями, бежит. Вот-вот его ноги, не поспевающие за инерцией бега, запутаются, подломятся: он упадет, и тогда все рухнет. Мне бежать за ним неспособно: потерявшие чувствительность ступни не гнутся в беге, подобно кочергам. И тут бочка подносит еще одну неприятность: из криво поставленного отверстия на толчках пути начинает выплескиваться вода. Сначала понемногу, потом раскачавшись, все больше. Вода, которую я с таким бережением и натугой добывала в заиндевелой избушке, драгоценные капли которой я так берегла, стараясь не приледенить сани к колее.
— Стой, стой, педераст, зараза, шкура! — кричу напарнику, но он мчится, вздергивая голову. Зато у подъема снова останавливается и замирает.
По голове я его не бью, стараюсь помочь, упираюсь в мосластый зад, не брезгуя ни хвостом, ни близостью ануса. Стоит!
И вдруг оглядывается на меня, и в тупых его глазах я читаю боль, безмысленное глазное яблоко стекленеет, распираемое безмолвным мучением, оттуда выкатывается слеза, другая. Они медленно проползают по обмерзшей шерсти, мутнея, словно виноградины, и животное, угнув голову почти до копыт, вымученно, кротко мычит красивым баритоном.
— Не могу! Не могу-у-у! — кричит бычок, извергая слюну и пары дыхания. Я тоже плачу от жалости к нему и бессилия. И гнева, смутного понимания одинаковости его и моей судьбы, загнавших нас обоих в эту узкую траншею из снежных кристаллов, в эту беспросветную степь, на конец мира, где только ледяной туман и нет ничего, кроме страдания. Обтираю свои слезы тряпочкой, на ней остаются пучочки ресниц, некогда так украшавших мое лицо.
В особо тяжелые минуты моего заключения я помогала себе волей к фантазии, представляла, например, что я на войне со всеобщим фашизмом, тяготы которой неизбежны и роковы. Вроде бы это помогало перемочь какой-то самый невыносимый миг. И сейчас я убеждаю себя, чисто актерскими приемами убеждаю, что я на фронте волоку тяжелое орудие, от ввода которого в бой зависит его исход.
Но не суетятся рядом бойцы-товарищи, да и сам мизер задания так очевиден, что возбуждаемые сознанием актерские эмоции не пробуждаются, не подвигают на испытание мои бессильные мускулы и гудящее в каждой клетке тела сердце. Всюду обступило морозное безмолвное уныние, ничто не помогает усилиям плоти, то обмерзающей до тла, то кидаемой в пот. Реальность остается больнее воображения.
В борьбе с бычком я не в состоянии, ну просто физически не могу, как самое страшное для меня унижение, уподобиться лагерному «быдлу», изрыгнуть то единственно понятное бычку матерное понукание, которому научила меня кухонная тетка. Войди я в образ бойца или проститутки, я б сумела, знаю. Но образ бойца мне не удается никак, я не могу произнести мат, сопротивляясь духовно тому истинному положению, в которое сегодня поставлена. Гордость это, что ли?
И тут вспоминаю о кукурузном початке у меня за пазухой «для Митьки». Да ведь Митька — это и есть, конечно, имя бычка. Теплый, я вынимаю кочан и способом библейским, придуманным для ослов, заставляю животное потянуться за початком, отодвигая его от жадно вдохнувших кукурузный аромат ноздрей. Бык переступает еще и еще, и сани трогаются. Так повторяю не раз во время нашего ледяного пути.
Возле кухни воду ждет персонал с ведрами. Увидя нас, все разразились веселым матом, но из деликатности ругают не меня, а бычка. Выясняется, что его действительно зовут Митькой, был некогда производителем, но, переболев, обессилел, постарел так, что когда какая-то баба потехи ради стала его мастурбировать
— «Эх, обхохоталися мы!» — никак не реагировал сексуально, только досадливо отодвинул бабу рогом.
Не в таком я сейчас «чине», чтобы выглядеть скандализованной таким рассказом, хотя и не улыбаюсь скабрезным шуткам, пока воду выцеживают в мелькающие ведра. Но воды оказывается мало, меньше, чем планировали: много ее выплеснулось из криво поставленного бочонка. Слышу матерки, адресованные уже прямо ко мне, но пока не в лицо. Прошу помощи, выпрямить косо лежащую посудину и отыскать дощечку, чтоб не плескало. Бочка снова приледенела.
Горячие кухонные люди с невероятным галдежом и несоразмерной заданию суетою, как полагается истинным южанам — среди них одесситы, молдаване и румыны, — приносят в клокочущем пару кипяток и экономно плещут под бочонок. Пар мешает мне рассмотреть хорошенько, и вся картина возле кухонных дверей делается похожей на сцену из ада, тем более, что все они смугло-черноглазые, оборванные и юркие, как черти. С оглушительным криком дело закончено, но в мою сторону косятся уже недружелюбно: работы у всех по горло, да и кому охота мерзнуть! Слово «кукона» звучит уже враждебно и насмешливо. Наконец, все убегают. В тепло. Холоду сегодня обречены мы с Митькой.
Во время всей этой суеты, потная и обмерзающая, от боли в груди притаившая дыхание, полная виноватости перед ними, я несколько раз, стоя в сторонке, теряю сознание», вот, падаю, ох! Но усилием воли не позволяю себе упасть, из гордости, другого ли чувства — нельзя. Обогреться в кухне тоже некогда: не хватило воды на самые первоначальные операции.