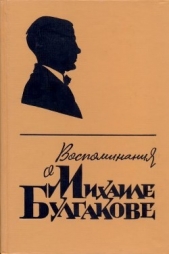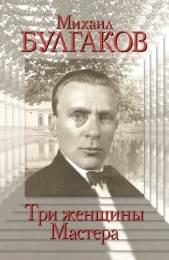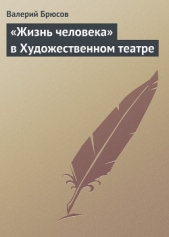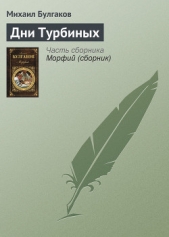Михаил Булгаков в Художественном театре

Михаил Булгаков в Художественном театре читать книгу онлайн
Михаил Булгаков говорил, что проза и драматургия для него как правая и левая рука пианиста. Но, если о прозе автора «Мастера и Маргариты» написано довольно много, то театральная его судьба освещена еще недостаточно. Книга А. М. Смелянского рассматривает историю таких пьес, как «Дни Турбиных», «Бег», «Мольер», инсценировки «Мертвых душ» и их постановки на сцене МХАТ. Завершается книга анализом «Театрального романа», как бы подводящего итог взаимоотношениям Булгакова и Художественного театра. Книга иллюстрирована. Рассчитана на специалистов и широкий круг читателей, интересующихся театром.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Возвращаясь к мхатовскому спектаклю, скажем, что идея Первого была, конечно, не единственным булгаковским предложением театру. Заведомо не принимая возможности обычной инсценировки «Мертвых душ», Булгаков писал пьесу, отмеченную его собственной драматургической техникой и глубоко личными мотивами, о которых уже шла речь применительно к теме Рима и монологу Первого «на закате солнца». Теперь отметим другие черты первой редакции, созданной осенью и зимой 1930 года.
Для Булгакова-драматурга зачин всегда имеет принципиальное значение. Первая ремарка и первые реплики пьесы дают ей смысловой и «музыкальный» настрой, завязывают основную тему сочинения. Так и в «Мертвых душах». Отбросив идею Рима и Первого на фоне Вечного города, Булгаков предложил иной пролог: уже не Италия, а Петербург, столичный трактир. «Ужин. Шампанское. Из соседней комнаты доносятся звуки кутежа. Пение: „Гляжу, как безумный, на черную шаль, и хладную душу терзает печаль“». Вот отсюда, из этого трактира, идея Чичикова, «как зараза», пошла гулять по Руси. Первая фраза Чичикова, обращенная к секретарю опекунского совета, намечала тон и смысл авантюристической эпопеи: «Бесчисленны, как морские пески, человеческие страсти, почтеннейший».
Идею «заразы», которая в виде Чичикова покатилась по Руси, Станиславский выдвинет как основополагающую мысль спектакля, его сквозное действие.
Петербургский трактир пришел на смену Риму. Действие погружалось в какую-то особую, предгрозовую атмосферу, которая была подробно зафиксирована в ремарках. Булгакову важно, скажем, было отметить, что эпизод у Коробочки начинается в «грозовых сумерках». «Грозовые сумерки. Лампадка. Самовар. Сквозь грохот грозы — стук в дверь».
Гроза, в которой заблудились Чичиков с Селифаном, тема грозы вообще входила важной составляющей в образную ткань задуманного спектакля. Можно предположить, что эта идея шла от Булгакова: символика очистительной, предупреждающей небесной стихии всегда аккомпанирует в искусстве Булгакова переломным моментам человеческой истории. В «Белой гвардии» Алексею Турбину «показалось вдруг, что черная туча заслонила небо, что налетел какой-то вихрь и смыл всю жизнь, как страшный вал смывает пристань». «Театральный роман» начинается ярчайшим воспоминанием Максудова о грозовом весеннем дне, когда он получил письмо из Независимого театра: «Гроза омыла Москву 29 апреля, и стал сладостен воздух, и душа как-то смягчилась, и жить захотелось». Мотив «грозовых сумерек», ливней, небесных знаков и предупреждений насквозь пропитывает «Мастера и Маргариту».
Тема грозы была лишь частью широко задуманной звуковой партитуры. Тут вкусы Сахновского и Булгакова тоже сошлись. Музыкально-звуковая ткань пьесы должна была поддержать основной стилистический замысел — перевод «грубо-натуральной канвы действия», «совершенно реальных и знакомых лиц» в «фигуры фантастические». Сахновский поясняет: «Между сценами в этом первом образе спектакля я слышал звуковую связь, когда гаснет одна сцена и еще не возникла из темноты другая. Я слышал то отъезжающую тройку с бубенцами и колокольчиками, то далекую песню, гармошку, обрывки доносящегося колокольного звона, клочки дуэта и фортепьяно, так бывает иногда — слушаешь из дальнего края сада, как поют в зале: окна раскрыты или открыта дверь на балкон и звуки доносятся смутно через деревья».
Рассказ режиссера подтверждается первоначальной редакцией пьесы. Среди наиболее характерных «булгаковских» черт музыкальной партитуры назовем «взрыв медной музыки» в восьмой картине, неожиданные чередования туша и гробовой тишины в картине бала, завершенной внезапным и немотивированным появлением Коробочки с фразой «Почем ходят мертвые души?». И лай собак, и хрип шарманки, и нежные звуки фортепьяно, и свист, и удары грома, и накат невиданного ливня — все входило в звуковую партитуру пьесы. Вот, скажем, финал шестой картины, ноздревской, в которой «гомерические элементы» собраны в наиболее сгущенном виде:
«Ноздрев. Подлец!!! Когда увидел, что не твоя берет, так не можешь? Бейте его! (Бросается на Чичикова, тот взлетает на буфет.)
Раздается удар грома.
Ноздрев. Пожар! Скосырь! Черкач! Северга! (Свистит, слышен собачий лай.) Бейте его!.. Порфирий! Павлушка!
Искаженное лицо Селифана появляется в окне. Ноздрев хватает шарманку, швыряет ее в Чичикова, та разбивается, играет „Мальбрука“. Послышались вдруг колокольчики, с храпом стала тройка».
Затем появляется капитан-исправник, пытающийся призвать Ноздрева к порядку:
«Капитан-исправник. Милостивый государь, позвольте вам…
Ноздрев (обернувшись, увидев, что Чичикова нет, бросается к окну). Держи его!.. (Свистит.)
Грянули колокольчики, послышался такой звук, как будто кто-то кому-то дал плюху, послышался вопль Селифана: „Выноси, любезные, грабят…“, потом все это унеслось и остался лишь пораженный капитан-исправник. Затем хлынул ливень».
Гоголевский текст свободно компонуется по законам булгаковской драмы. Свобода драматурга покоилась на «внимательном и тончайшем изучении» поэтики Гоголя, которой надо было найти сценический эквивалент. В последних картинах Булгаков чувствует себя полноправным автором пьесы: по существу, это уже фантазия на тему Гоголя, булгаковская транскрипция гоголевских мотивов. Девятая картина посвящена механике роста, развития и распространения слухов и сплетен вокруг чичиковского дела. Первый перед занавесом, как дирижер оркестру, предлагает гоголевскую тему:
«Весь город заговорил про мертвые души. Про Чичикова и мертвые души. Про губернаторскую дочку и Чичикова. Про Ноздрева и мертвые души и про Коробочку. Вдруг все, что ни есть, поднялось. Началась в головах кутерьма, сутолока. ‹…› Как вихрь, взметнулся доселе, казалось, дремавший город. Показался какой-то Сысой Пафнутьич и Макдональд Карлович, о которых и не слышно было никогда. На улицах показались крытые дрожки, неведомые линейки, дребезжалки, колесосвистки…
Колокольчик.
Ну, заварилась каша.
(Скрывается.)».
И далее на эту тему шла сцена, в которой две дамы, потом Макдональд Карлович и Сысой Пафнутьевич, а потом и Прокурор раскручивали маховик чудовищной сплетни (насколько этот мотив был интимно усвоен Булгаковым у Гоголя, свидетельствует уже цитированное письмо о слухах, которые распространяли «жители города» в связи с возобновлением «Дней Турбиных»). Бытовой абсурд драматург доводил до гротескового всплеска: действие завершал попугай, перекочевавший в «Мертвые души» из «Багрового острова». Наглая птица проживала на квартире у Прокурора и в общей неразберихе и путанице вдруг оглушала собравшихся: «Ноздрев! Ноздрев!»
«Прокурор. И птица уже!.. Нечистая сила (крестится)».
В десятой картине, так называемой камеральной, Булгаков оказывается наиболее далеким от текста Гоголя — и наиболее близким к духу первоисточника. Он сочиняет сцену допроса косноязычного Селифана и вдрызг упившегося Петрушки. Тут же все время появляется Коробочка с вопросом: «Почем ходят мертвые души?»
Ноздрев, пьянея на глазах, напяливает на себя треуголку полицмейстера, чтобы доказать, что Чичиков похож на Наполеона. Потом, после небольшого рассказа полицмейстера о капитане Копейкине, появляется и сам легендарный капитан; Прокурор со страха отдает богу душу. Сцена завершается репликой проснувшегося Ноздрева: «Я вам говорил!»
По ходу пьесы становилось все более ясным сложное и неоднозначное положение ее центрального героя, Чичикова. При всем том, что Павел Иванович — приобретатель и плут «и совершенно голый в смысле каких-либо принципов», он оказывается единственным, кроме Первого, героем если не пути, то какого-то движения, дороги. В мире губернаторов, вышивающих кошельки, дядей Митяев и дядей Миняев, Макдональд Карловичей и Сысой Пафнутьевичей, в мире косности и азиатского вечного покоя Чичиков поневоле становился ферментом-бродилом, той самой провоцирующей «заразой», которая выявляет положение дел на Руси.