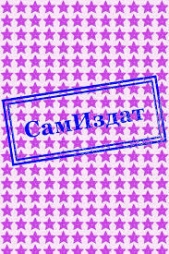Марина Цветаева. Жизнь и творчество
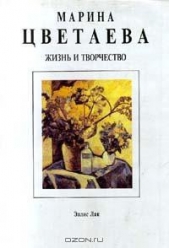
Марина Цветаева. Жизнь и творчество читать книгу онлайн
Новая книга Анны Саакянц рассказывает о личности и судьбе поэта. Эта работа не жизнеописание М. Цветаевой в чистом виде и не литературоведческая монография, хотя вбирает в себя и то и другое. Уникальные необнародованные ранее материалы, значительная часть которых получена автором от дочери Цветаевой — Ариадны Эфрон, — позволяет сделать новые открытия в творчестве великого русского поэта.
Книга является приложением к семитомному собранию сочинений М. Цветаевой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Она все время настаивает на своем веселье, не снимает этой маски. Но лишь ей одной ведомы эти перепады: от безудержной радости к глухому отчаянью, от беззаботного смеха к неуёмным слезам…
Потеряв однажды пятьсот рублей, старинную брошку и ключи, — она ощутила настоящее горе и -
"Я одну секунду было совершенно серьезно — с надеждой — поглядела на крюк в столовой.
— Как просто! -
Я испытывала самый настоящий соблазн".
Двадцать седьмого ноября Марина Ивановна сделала непоправимый шаг, обернувшийся трагедией. Кто-то посоветовал ей и помог поместить Алю и Ирину в Кунцевский приют. И, несмотря на то, что была возможность, с помощью Н. В. Крандиевской, устроить детей в московский садик, Марина Ивановна почему-то больше поверила в Кунцево. Одиночество свое она переживала тяжело; разлукой с Алей вдохновлено одно из лучших стихотворений:
Вскоре Аля тяжело заболела; болезнь длилась три месяца. По-видимому, грустной поездкой к ней в кунцевский красноармейский госпиталь навеяно мрачное стихотворение: "В темных вагонах На шатких, страшных Подножках, смертью перегруженных, Между рабов вчерашних Я все думаю о тебе, мой сын, — Принц с головою обритой!.. Принц мой приютский! Можешь ли ты улыбнуться? Слишком уж много снегу В этом году! Много снегу и мало хлеба. Шатки подножки".
В стихах появляются ноты безысходности:
"О души бессмертный дар! Слезный след жемчужный! Бедный, бедный мой товар, Никому не нужный!.."; и совсем беспросветно: "Я не хочу ни есть, ни пить, ни жить. А так: руки скрестить, тихонько плыть Глазами по пустому небосклону…"
В декабре написано одно из лучших стихотворений, в котором выражена вся двоякость земли и неба в душе лирической героини:
Перекличка со стихами 1916 года: суббота, которую любила, и воскресенье, которого не хотела… (Прибавим еще, что в реальной жизни Цветаева чтила серебро и презирала золото.)
Суббота — серебро — правое крыло ("В правой рученьке — рай") — Забота — грусть — Душа — Психея — божественное начало поэта — Вертикаль.
Воскресенье — золото — левое крыло ("В левой рученьке — ад") — Забава — "проснувшаяся" кровь — земная женщина — грешная Ева — Горизонталь.
Оба начала неразрывны; вспомним: "Мы смежены, блаженно и тепло, Как правое и левое крыло".
Однако может произойти и "расщепление атома": "Но вихрь встает — и бездна пролегла От правого до левого крыла!"
От гармонии слияния к бездне разрыва — вот любовный путь цветаевской героини.
Наступил 1920 год. Поездка Марины Ивановны в кунцевский госпиталь [44] января послужила толчком к драматическим строкам:
И — странно ли, закономерно ли? — но когда жизненные обстоятельства ставили Цветаеву на край бездны, именно в эти моменты приходила на помощь природная самозащита, и рождались строки, казалось бы, несовместимые с ситуацией:
"Поцеловала в голову, Не догадалась — в губы! А все ж — по старой памяти — Ты хороша, Любовь!.. Да нет, да нет, — в таком году Сама Любовь — не женщина! Сама Венера, взяв топор, Громит в щепы подвал…"
Это написано Александру Ерофееву, мужу Веры Клавдиевны Звягинцевой. С лета девятнадцатого они — добрые знакомые Цветаевой, в их доме ей дышится легко. К тем же дням относятся стихи, обращенные к Сергею Алексееву, племяннику Станиславского, талантливому гитаристу, страстному лошаднику и, что называется, "гусару по призванию":
Тогда же (январь) написала Цветаева стихотворение о двух своих бабках — простой русской женщине и польской панне; "Обеим бабкам я вышла — внучка: Чернорабочий — и белоручка!"
Тяжелобольную Алю Марина Ивановна привезла в Москву, выхаживать ее помогала В. А. Жуковская, у нее временно и поселилась Цветаева с дочерью. Помогала и Вера Эфрон; Лили не было в Москве; она только что устроилась на работу в провинции и как раз собиралась взять к себе пожить маленькую Ирину. Но это не осуществилось: 15 или 16 февраля [45] девочка угасла в приюте, не болея и не принимая пищи. (Впрочем, как впоследствии писала Ариадна Эфрон, "там просто не кормили", обворовывали детей.)
А Марина Ивановна, которая, по-видимому, еще не знает о смерти дочери, пишет письмо В. К. Звягинцевой и А.С. Ерофееву. В своем неизбывном внутреннем одиночестве она ощущает необходимость выговориться, "выдышаться" (как скажет позже). Это письмо обнаженно и бесстрашно-правдиво, оно производит ошеломляющее впечатление; в нем — вся Цветаева во всех контрастах своей поистине шекспировской натуры:
"Друзья мои!
Спасибо за любовь.
Пишу в постели, ночью. У Али 40, 4 — было 40, 7. — Малярия. 10 дней была почти здорова, читала, писала, вчера вечером еще 37 — и вдруг сегодня утром 39, 6 — вечером 40, 7.
— Третий приступ. — У меня уже есть опыт безнадежности, — начала фразу и от суеверия в хорошую или дурную сторону боюсь кончить.
— Ну, даст Бог! -
Живу, окруженная равнодушием, мы с Алей совсем одни на свете.
Нет таких в Москве!
С другими детьми сидят, не отходя, а я — у Али 40, 7 — должна оставлять ее совсем одну, идти долой за дровами.
У нее нет никого, кроме меня, у меня — никого, кроме нее. — Не обижайтесь, господа, я беру нет и есть на самой глубине: если есть, то умрет, если я умру, если не умрет — так нет.
Но это — на самую глубину, — не всегда же мы живем на самую глубину — как только я стану счастливой — т. е. избавленной от чужого страдания — я опять скажу, что вы оба — Саша и Вера — мне близки. — Я себя знаю. -
— Последние дни я как раз была так счастлива: Аля выздоравливала, я — после двух месяцев — опять писала, больше и лучше, чем когда-либо. Просыпалась и пела, летала по лавкам — блаженно! — Аля и стихи.
Готовила книгу — с 1913 г. и по 1915 г. — старые стихи воскресали и воскрешали, я исправляла и наряжала их, безумно увлекаясь собой 20-ти лет и всеми, кого я тогда любила: собою — Алей — Сережей — Асей — Петром Эфроном — Соней Парнок — своей молодой бабушкой — генералами 12 года — Байроном — и - не перечислишь!
И вот Алина болезнь — и я не могу писать, не вправе писать, ибо это наслаждение и роскошь. А вот письма пишу и книги читаю. Из этого вывожу, что единственная для меня роскошь — ремесло, то, для чего я родилась.
Вам будет холодно от этого письма, но поймите меня: я одинокий человек — одна под небом — (ибо Аля и я — одно), мне нечего терять. Никто мне не помогает жить, у меня нет ни отца, ни матери, ни бабушек, ни дедушек, ни друзей! Я — вопиюще одна, потому — на всё вправе. — И на преступление! -
Я с рождения вытолкнута из круга людей, общества. За мной нет живой стены, — есть скала: Судьба. Живу, созерцая свою жизнь, — всю жизнь — Жизнь! — У меня нет возраста и нет лица. Может быть — я - сама Жизнь! Я не боюсь старости, не боюсь быть смешной, не боюсь нищеты — вражды — злословия. Я, под моей веселой, огненной оболочкой, — камень, т. е. неуязвима. — Вот только Аля. Сережа. — Пусть я завтра проснусь с седой головой и морщинами — что ж! — я буду творить свою Старость — меня все равно так мало любили!
Я буду жить — Жизни — других.
И вместе с тем, я так радуюсь каждой выстиранной Алиной рубашке и чистой тарелке! — И комитетскому хлебу! И — так хотела бы новое платье!"