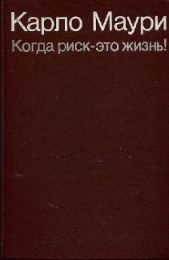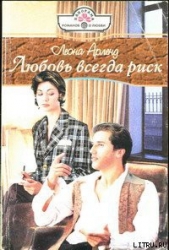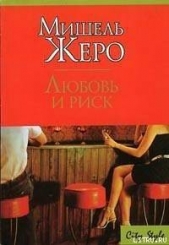Риск, борьба, любовь

Риск, борьба, любовь читать книгу онлайн
В книге использованы фотографии из личного архива автора (среди них работы Н. Ковальчука, В. Коробова, В. Муравьева, Б. Христинича), а также МТКЦ «Страна чудес дедушки Дурова»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Мы положим тигров в ряд, и все они будут выполнять равнение — четко, как солдаты во время строевой.
— А потом маршировать, — иронически бросил Рыжик.
— А почему нет? — ответил я. — Мы это уже репетировали. Они прекрасно маршируют, приподнимая передние лапы. Можно вести их строем по кругу.
— Ну, ты даешь, Вальтер! На ходу придумываешь трюки из ничего.
— Каждому свое. Я зато не умею того, что вы делаете охотно и талантливо.
— А именно? — удивился Рыжик.
— Долго спать.
Подошел Афанасьев и поинтересовался, о чем это мы так оживленно беседуем.
— Да вот, Борис Эдуардович, — сказал я, — придумал, как вам войти в клетку во время работы.
Старик недоуменно поднял брови, но ничего не сказал.
— Вы будете стоять у центральных дверей за решеткой. Лежа на проволоке, я подниму палку и придержу Париса, а сам буду делать вид, что он не хочет прыгать. А когда публика убедится, что тигр не слушается меня, я попрошу вас помочь мне. Вы войдете в клетку и мягко, без нажима попросите его прыгнуть. Я тут же опущу палку, и тигр прыгнет. Это будет контрастно. А заодно проиллюстрирует ваш принцип гуманного отношения к животным. Надо только приучить к вам хищников, чтобы они знали, что вы свой человек.
Афанасьев попытался скрыть слезу радости. Он как-то подтянулся, заморгал и отвернулся. Старика растрогало все сразу: и что он войдет в клетку, и что ему приписывают авторство трюка, и что его ценят. Мне стало его жаль.
До открытия оставалось совсем немного времени. Перегруженные рабочие уже плохо реагировали на мои указания. Казалось, они попросту разучились соображать. Я решил подбодрить их. Написал на большом листе бумаги: «До открытия осталось 60 дней. Крепитесь, ребята! Дальше хуже будет!» Служащие смеялись вместе со мной, но лучше работать не стали. Пришлось по очереди отпускать их отсыпаться.
Расчертив на квадраты старый плакат, мы сделали календарь оставшихся дней. Я посматривал на него с тревогой и думал: а не лучше ли его сорвать, уж слишком действует на нервы. Но, как ни странно, ребят он подхлестывал.
Когда календарь оповестил нас, что до открытия осталось пять дней, приехал оркестр. Музыканты готовы были начать репетировать немедленно. Но у меня не было нот — музыкальный отдел главка не позаботился снабдить оркестр необходимой партитурой. Пришлось довольствоваться тем репертуаром, которым располагали музыканты.
Злосчастные лабухи (как они себя называли) крайне беспечно отнеслись к задаче приучения хищников к звучанию оркестра. Конфликт разгорелся, едва я попросил музыкантов играть предельно тихо и сидеть прямо у клеток.
— Наше дело отрепетировать, — заявили мне, — а учить зверей — твоя забота.
При первых же звуках меди звери в ужасе заметались по клеткам. Несколько оркестрантов пришли в восторг от такого эффекта и принялись хохотать. Мне же было не до смеха. Больше всех перепугался Цезарь. Я никак не ожидал от мощного вполне уравновешенного зверя подобной реакции. Лев в кровь рассадил себе о решетку нос и надбровные дуги. Высунув язык, он носился по клетке и бился о решетки с такой силой, что, казалось, рухнут стены конюшни.
Как выяснилось, чертовы лабухи стали находить особое удовольствие в том, чтобы пугать животных. Как-то, вернувшись с завода, я застукал возле клеток саксофониста. Он развлекался тем, что извлекал из своего инструмента громкий, нестерпимо высокий звук. От этого звука у хищников начиналась настоящая паника.
Получив хорошую затрещину, саксофонист чуть не проглотил мундштук и жестоко закашлялся. А я, с трудом сдерживаясь, сказал:
— Что, невкусно?! Твоя, ублюдок, шалость может стоить мне жизни. Что же ты за дрянь! Ведь я просил не пугать, а приучать животных.
Мою затрещину музыканты восприняли как страшное оскорбление. Проявив солидарность, они заявили, что отказываются работать, если я не извинюсь. И я в присутствии всего оркестра был вынужден просить у саксофониста прощения. Правда, извиняясь, я предупредил, что в следующий раз в горло влетит уже не мундштук, а весь инструмент целиком. Таким образом, конфликт ликвидирован не был. Музыканты затаили злобу.
Я же, так и не сумев успокоить животных, вынужден был отказаться от всей группы духовых. Аккомпанемент получился бедный. А в оркестре нарастало глухое недовольство. Посовещавшись, музыканты отложили свои угрозы до премьеры. То и дело Ионис или Гасюнас докладывали мне, что на премьере оркестранты собираются играть так, как считают нужным. Чем все это может кончиться, никто и знать не хотел. Важно было отомстить за оскорбление. Я не обратил на эти обещания особого внимания, так как был уверен, что дирижер Габиридзе быстро наведет порядок.
Я получал истинное удовольствие, наблюдая за Габиридзе. Этот человек буквально перевоплощался в работе. Его черные глаза начинали блестеть, губы под усиками расплывались в очаровательной улыбке, обнажая ряд великолепных белых зубов. Пританцовывая, подергивая плечами, он дирижировал, повернувшись спиной к оркестру и внимательно глядя на манеж. Габиридзе принадлежал к тем дирижерам, которые прекрасно понимают разницу между цирком и концертным залом. Он подчинял свою работу интересам артистов и строго спрашивал с оркестрантов, чем еще больше злил их. И теперь я надеялся, что на премьере оркестр сыграет так, как это нужно в интересах дела.
Дня за два до открытия сезона приехал и электрик — человек необыкновенный, большого роста, с торчащими усами и огромными бычьими глазами. Его косматые черные брови придавали лицу грозное выражение, но глаза с нависшими веками говорили о бесконечной доброте. Всем своим видом этот человек напоминал старого добродушного сенбернара. Занимался он только своим делом. Копошился над приборами, тянул провода, ходил по коридорам, проверяя, где не выключен свет.
Электрик оказался человеком безотказным, в том смысле, что не отказывал ни в чем и никому. Но никогда и не делал того, о чем его просили. Был он болезненно скуп и боялся огня. Говорили, что в Молотовском цирке он горел и с тех пор приобрел привычку укоризненно смотреть в глаза тем, кто курит.
Когда начались прогоны, я обратился к нему:
— Николай Иванович, вы дали полный свет? Больше не будет?
Он посмотрел на софиты, оглядел купол, словно видел его впервые, и пробасил:
— Полный. Ну разве что немного добавится.
— Смотрите, Николай Иванович, надо показать зверям весь свет, чтобы они привыкли.
— Неужто не привыкнут?!
— Кто их знает, — ответил я, — может, и не будут реагировать. Но на всякий случай предупредите осветителей, чтобы не направляли пушки, прямо в глаза животным. Пусть светят поверх голов.
Наконец наступил последний день. Завтра дебют. Как всегда, не хватило одних суток. Тумбы спешно докрашивались, костюм еще не прибыл, с оркестром репетировали мало. Я дергался и поторапливал всех.
Афанасьев ходил по цирку, как-то странно втянув и без того короткую шею. Все больше молчал и хмурился. Подергивая лохматыми бровями, он иногда повышал на кого-нибудь голос, но тут же брал себя в руки. Гасюнас единственный из нас сохранял невозмутимое спокойствие и выполнял все быстро и четко. Лишь слегка раскрасневшиеся щеки выдавали его внутреннее волнение. У всех же остальных на лицах было написано крайнее смятение: как оно сложится, как будет?
Подойдя к вымазанным в краске служащим, я спросил:
— До работы высохнет?
— Это нитроэмаль, под кистью сохнет!
— А запах?
— Вонять долго будет, — определил Рыжик, работавший когда-то маляром.
Я тяжело вздохнул: рано, конечно, преступно рано. Еще бы хоть недельку подождать…
— Вальтер, вот примерь костюм. На складе дали. Может быть, подойдет, — Афанасьев протянул мне груду тряпок.
Боже мой, какой это был ужасный костюм! Полная противоположность тому, в каком я репетировал. И цвет, и фасон. Необъятный плащ. Салатного цвета рубашка, украшенная дурацкой бахромой. Воротничок с большими уголками постоянно задирался и мешал. Узкие белые брюки так стягивали бедра, что невозможно было ни присесть, ни сделать выпад.