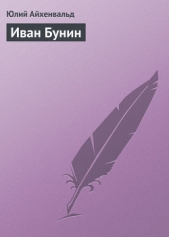Иван Бунин

Иван Бунин читать книгу онлайн
Публикуемая в серии «ЖЗЛ» книга Михаила Рощина о Иване Алексеевиче Бунине необычна. Она замечательна тем, что писатель, не скрывая, любуется своим героем, наслаждается его творчеством, «заряжая» этими чувствами читателя. Автор не ставит перед собой задачу наиболее полно, день за днем описать жизнь Бунина, более всего его интересует богатая внутренняя жизнь героя, особенности его неповторимой личности и характера; тем не менее он ярко и убедительно рассказывает о том главном, что эту жизнь наполняло.
Кроме «Князя» в настоящее издание включены рассказ Михаила Рощина «Бунин в Ялте» и сенсационные документы, связанные с жизнью Бунина за границей и с историей бунинского архива. Документы эти рассекречены недавно и публикуются впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Генрих, что ты? — сказал он.
— Не знаю, милый, — ответила она тихо. — Я на рассвете часто плачу. Проснешься, и так вдруг станет жалко себя… Через несколько часов ты уедешь, а я останусь одна, пойду в кафе ждать своего австрийца… А вечером опять кафе и венгерский оркестр, эти режущие душу скрипки…
— Да, да, и пронзительные цимбалы… Вот я и говорю: пошли австрияка к черту и поедем дальше.
— Нет, милый, нельзя. Чем же я буду жить, поссорившись с ним? Но клянусь тебе, ничего у меня с ним не будет. Знаешь, в последний раз, когда я уезжала из Вены, мы с ним уже выяснили, как говорится, отношения — ночью, на улице, под газовым фонарем. И ты не можешь себе представить, какая ненависть была у него в лице! Лицо от газа и злобы бледно-зеленое, оливковое, фисташковое… Но, главное, как я могу теперь, после тебя, после этого купе, которое сделало нас уж такими близкими…
— Слушай, правда?
Она прижала его к себе и стала целовать так крепко, что у него перехватывало дыхание.
— Генрих, я не узнаю тебя.
— И я себя. Но иди, иди ко мне.
— Погоди…
— Нет, нет, сию минуту!
— Только одно слово: скажи точно, когда ты выедешь из Вены?
— Нынче вечером, нынче же вечером!
Поезд уже двигался, мимо двери мягко шли и звенели по ковру шпоры пограничников.
И был венский вокзал, и запах газа, кофе и пива, и уехала Генрих, нарядная, грустно улыбающаяся, на нервной, деликатной европейской кляче, в открытом ландо с красноносым извозчиком в пелерине и лакированном цилиндре на высоких козлах, снявшим с этой клячи одеяльце и загукавшим и захлопавшим длинным бичом, когда она задергала своими аристократическими, длинными, разбитыми ногами и косо побежала с своим коротко обрезанным хвостом вслед за желтым трамваем. Был Земмеринг и вся заграничная праздничность горного полдня, левое жаркое окно в вагоне-ресторане, букетик цветов, аполлинарис и красное вино «Феслау» на ослепительно-белом столике возле окна и ослепительно-белый полуденный блеск снеговых вершин, восставших в своем торжественно-радостном облачении в райское индиго неба, рукой подать от поезда, извивавшегося по обрывам над узкой бездной, где холодно синела зимняя, еще утренняя тень. Был морозный, первозданно-непорочный, чистый, мертвенно алевший и синевший к ночи вечер на каком-то перевале, тонувшем со всеми своими зелеными елями в великом обилии свежих пухлых снегов. Потом была долгая стоянка в темной теснине, возле итальянской границы, среди черного Дантова ада гор, и какой-то воспаленно-красный, дымящий огонь при входе в законченную пасть туннеля. Потом — все уже совсем другое, ни на что прежнее не похожее: старый, облезло-розовый итальянский вокзал и петушиная гордость и петушиные перья на касках коротконогих вокзальных солдатиков, и вместо буфета на вокзале — одинокий мальчишка, лениво кативший мимо поезда тележку, на которой были только апельсины и фиаски. А дальше уже вольный, все ускоряющий бег поезда вниз, вниз и все мягче, все теплее бьющий из темноты в открытые окна ветер Ломбардской равнины, усеянной вдали ласковыми огнями милой Италии. И перед вечером следующего, совсем летнего дня — вокзал Ниццы, сезонное многолюдство на его платформах…
В синие сумерки, когда до самого Антибского мыса, пепельным призраком таявшего на западе, протянулись изогнутой алмазной цепью несчетные береговые огни, он стоял в одном фраке на балконе своей комнаты в отеле на набережной, думал о том, что в Москве теперь двадцать градусов морозу, и ждал, что сейчас постучат к нему в дверь и подадут телеграмму от Генриха. Обедал в столовой отеля, под сверкающими люстрами, в тесноте фраков и вечерних женских платьев, опять ждал, что вот-вот мальчик в голубой форменной курточке до пояса и в белых вязаных перчатках почтительно поднесет ему на подносе телеграмму; рассеянно ел жидкий суп с кореньями, пил красное бордо и ждал; пил кофе, курил в вестибюле и опять ждал, все больше волнуясь и удивляясь: что это со мною, с самой ранней молодости не испытывал ничего подобного. Но телеграммы все не было. Блестя, мелькая, скользили вверх и вниз лифты, бегали взад и вперед мальчики, разнося папиросы, сигары и вечерние газеты, ударил с эстрады струнный оркестр — телеграммы все не было, а был уже одиннадцатый час, а поезд из Вены должен был привезти ее в двенадцать. Он выпил за кофе пять рюмок коньяку и, утомленный, брезгливый, поехал в лифте к себе, злобно глядя на мальчика в форме: «Ах, какая каналья вырастет из этого хитрого, услужливого, уже насквозь развращенного мальчишки! И кто это выдумывает всем этим мальчишкам какие-то дурацкие шапочки и курточки, то голубые, то коричневые, с погончиками, кантиками!»
Не было телеграммы и утром. Он позвонил, молоденький лакей во фраке, итальянский красавчик с газельими глазами, принес ему кофе: «Pas de lettres, monsieur, pas de telegrammes» [7]. Он постоял в пижаме возле открытой на балкон двери, щурясь от солнца и пляшущего золотыми иглами моря, глядя на набережную, на густую толпу гуляющих, слушая доносящееся снизу, из-под балкона, итальянское пение, изнемогающее от счастья, и с наслаждением думал:
«Ну и черт с ней. Все понятно».
Он поехал в Монте-Карло, долго играл, проиграл двести франков, поехал назад, чтобы убить время, на извозчике — ехать чуть не три часа: топ-топ, топ-топ, уи! и крутой выстрел бича в воздухе… Портье радостно осклабился:
— Pas de telegrammes, monsieur!
Он тупо одевался к обеду, думал все одно и то же:
«Если бы сейчас вдруг постучали в дверь и она вдруг вошла, спеша, волнуясь, на ходу объясняя, почему она не телеграфировала, почему не приехала вчера, я бы, кажется, умер от счастья! Я сказал бы ей, что никогда в жизни, никого на свете не любил, как ее, что Бог многое простит мне за такую любовь, простит даже Надю, — возьми меня всего, всего, Генрих! Да, а Генрих обедает сейчас со своим австрияком. Ух, какое это было бы упоение — дать ей самую зверскую пощечину и проломить ему голову бутылкой шампанского, которое они распивают сейчас вместе!»
После обеда он ходил в густой толпе по улицам, в теплом воздухе, в сладкой вони копеечных итальянских сигар, выходил на набережную, к смоляной черноте моря, глядел на драгоценное ожерелье его черного изгиба, печально пропадающего вдали направо, заходил в бары и все пил, то коньяк, то джин, то виски. Возвратясь в отель, белый как мел, в белом галстуке, в белом жилете, в цилиндре, важно и небрежно подошел к портье, бормоча мертвеющими губами:
— Pas de telegrammes, monsieur?
И портье, делая вид, что ничего не замечает, ответил с радостной готовностью:
— Pas de telegrammes, monsieur!
Он был так пьян, что заснул, сбросив с себя только цилиндр, пальто и фрак, — упал навзничь и тотчас головокружительно полетел в бездонную темноту, испещренную огненными звездами.
На третий день он крепко заснул после завтрака и, проснувшись, вдруг взглянул на все свое жалкое и постыдное поведение трезво и твердо. Он потребовал к себе в комнату чаю и стал убирать из гардероба вещи в чемоданы, стараясь больше не думать о ней и не жалеть о своей бессмысленной, испорченной поездке. Перед вечером спустился в вестибюль, заказал приготовить счет, спокойным шагом пошел к Куку и взял билет в Москву через Венецию в вечернем поезде: пробуду в Венеции день и в три часа ночи прямым путем, без остановок, домой, в Лоскутную… Какой он, этот австрияк? По портретам и по рассказам Генриха, рослый, жилистый, с мрачным и решительным — конечно, наигранным — взглядом кососклоненного из-под широкополой шляпы лица… Но что о нем думать! И мало ли что будет еще в жизни! Завтра Венеция. Опять пение и гитары уличных певцов на набережной под отелем, — выделяется резкий и безучастный голос черной простоволосой женщины, с шалью на плечах, вторящей разливающемуся коротконогому, кажущемуся с высоты карликом, тенору в шляпе нищего… старичок в лохмотьях, помогающий входить в гондолу — прошлый год помогал входить с огнеглазой сицилиан-кой в хрустальных качающихся серьгах, с желтой кистью цветущей мимозы в волосах цвета маслины… запах гниющей воды канала, погребально лакированная внутри гондола с зубчатой, хищной секирой на носу, ее покачивание и высоко стоящий на корме молодой гребец с тонкой, перепоясанной красным шарфом талией, однообразно подающийся вперед, налегая на длинное весло, классически отставивши левую ногу назад…