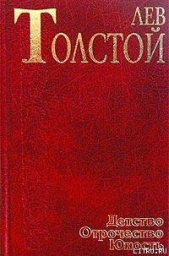Л. Н. Толстой в последний год его жизни

Л. Н. Толстой в последний год его жизни читать книгу онлайн
В. Ф. Булгаков (1886–1966) был секретарем Л. Н. Толстого в последний год его жизни (1910). Книга представляет собой дневник В. Ф. Булгакова, который он вел все эго время, и содержит подробное и объективное описание духовных исканий Л. Н. Толстого этого периода, изображение драматических событий последнего года жизни писателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Лев Николаевич старается припомнить цвет таракана. Компетентные люди объясняют, что собственно тараканы по виду — черные и большие, а маленькие и темно — желтые — это прусаки.
— Вот у меня маленький и темно — желтый, — говорит Лев Николаевич.
— Так, стало быть, это не таракан, а прусак, — заключает Владимир Григорьевич при общем смехе.
— Стало быть, прусак, — соглашается Лев Николаевич.
— А где Валентин Федорович? — спрашивает он вдруг через минуту. — Что же вы не поете?
Я встал и спел «Лихорадушку» Даргомыжского, по просьбе Чертковых, которым я пел эту песню вчера и еще раньше.
— Quasi [213] народная, — заметил Лев Николаевич.
Потом спел еще народную песню «Последний нынешний денечек».
— Прекрасная песня, прекрасная песня! — говорил Лев Николаевич.
Похвалил у меня ясную дикцию. Затем ушел, а без него организовался хор, с которым я пропел еще две песни.
От одной особы Лев Николаевич получил письмо с просьбой прислать триста рублей на лечение мужа от нервной болезни.
— Жалко, что я «откупался», — говорил он, — а то сколько бы хороших вещей можно было написать! Вот хотя бы об этой женщине…
— Да вы и пишете хорошие вещи, — сказал Владимир Григорьевич, намекая, очевидно, на пьесу, которую Лев Николаевич пишет.
— Должно быть, я стал к себе строже, — ответил Лев Николаевич.
Вчера Лев Николаевич начал и сегодня кончил новую статью «Славянам», написанную по поводу приглашения его участвовать в славянском съезде в Софии. Вчера он кончил предисловие к «Мыслям о жизни», но сегодня все‑таки еще поправил его немного. Поправку, как он говорил мне, ему хотелось сделать следующую. Он писал в предисловии о «любви к богу и другим существам». Чертков, если не ошибаюсь, предложил ему выпустить слова «любовь к богу». Лев Николаевич согласился, но сегодня решил выражение «любовь к богу» заменить выражением «сознание бога».
— Это гораздо яснее и сильнее, — говорил мне Лев Николаевич, излагая сущность новой поправки.
Просматривая ноябрьский и декабрьский выпуски «На каждый день», Лев Николаевич некоторые мысли снял и просил меня вместо них подыскать другие, однородные по содержанию, из его же сочинений. Замена, которую я сделал, была им одобрена.
Вчера заболела оспой маленькая дочка одного из работников, и всем обитателям дома была сделана прививка оспы, за исключением Владимира Григорьевича, отказавшегося от прививки по принципиальным соображениям, Александры Львовны и Анны Константиновны, как не вполне здоровых физически, и, конечно, Льва Николаевича.
Последний говорил о бесполезности прививки.
— Нечего стараться избавиться от смерти, все равно умрешь.
— Да не все хотят умирать, — возразили ему.
— И напрасно.
Пришло письмо М. А. Стаховича о том, что Столыпин разрешил Черткову жить в Телятинках, пока там будет гостить его мать. Всеобщее ликование. Вечером, под аккомпанемент пианино и с хором, я пел песни «Вот мчится тройка удалая» и «Последний нынешний денечек». Лев Николаевич слушал.
— После этой песни («Последний нынешний денечек») удобно перейти сразу на «Барыню», так очень подходит, — посоветовал он нам.
И подхлопывал «Барыне» в ладоши.
С утра Лев Николаевич очень веселый и оживленный. Усиленно пишет. Александра Львовна вошла на цыпочках, положила для поправок на стол вновь переписанное письмо славянскому съезду. Он — ни звука. Пишет сам на листках бумаги. Потом приходит к ней на балкон, дручает рукопись — оказывается, написал рассказ под названием «Нечаянно» — и декламирует:
Александра Львовна так оживилась, что решилась спуститься вниз, чтобы переписать рассказ на пишущей машинке, по подставной деревянной лестнице, высокой и крутой. По большой внутренней лестнице в доме в это время обычно стараются не ходить, чтобы не беспокоить скрипом отдыхающую А. К. Черткову.
— Если ты лазишь по этой лестнице, так и я буду лазить, — говорит Лев Николаевич.
Александра Львовна давно уже подозревала в нем это желание.
В три часа поехали по приглашению директора и врачей в Мещерское, в Покровскую психиатрическую лечебницу, на сеанс кинематографа, обычно устраиваемый раз в неделю для больных. Лев Николаевич, Александра Львовна, Владимир Григорьевич и многие из домочадцев, в том числе и я.
Опять Льву Николаевичу — царская встреча. Со всех сторон бежит народ. Стали подъезжать к зданию лечебницы, по сторонам дороги — толпы. Тьма фотографов. При входе две больных женщины поднесли Льву Николаевичу два букета цветов.
Большой зал. Темные занавеси на окнах. Освещение — электрическими фонарями. В глубине зала большой экран. На скамьях для зрителей — направо больные мужчины, налево женщины. В конце левых рядов — ряд стульев, где сел рядом с директором больницы Лев Николаевич и где разместились остальные гости.
Электричество потухло, зашипел граммофон в качестве музыкального сопровождения, и на экране замелькали картины. Показывались при нас картины: «Нерон» — драма, водопад Шафгаузен — с натуры, зоологический сад в Анвере — с натуры, «Красноречие цветка» — мелодрама (преглупая), похороны английского короля Эдуарда VII — с натуры и «Удачная экспроприация» — комическая (очень глупая). Картины эти оценены были Львом Николаевичем по достоинству. Мелодрама и экспроприация, а также и «Нерон» поразили его своей бессодержательностью и глупостью; похороны короля Эдуарда навели на мысль о том, сколько эта безумная роскошь стоила; зоологический сад очень понравился.
— Это настоящий кинематограф, — говорил Лев Николаевич во время показывания этой картины. — Невольно подумаешь, чего только не производит природа, — добавил он.
— А, обезьяны! — прочел он на экране заглавие. — Это забавно!..
Обезьяны действительно были очень забавны.
По неосторожности Лев Николаевич в антракте заговорил с одной больной, бывшей учительницей, с которой виделся в первое посещение лечебницы.
Та нервно — возбужденно заговорила:
— Вот вы, Лев Николаевич, говорите: не судите да не судимы будете. А мой доктор должен быть отдан под суд, потому что он — деспот! Вы знаете значение слова «деспот»?
— Да как же, знаю!
— Так вот он деспот! Он лечит меня совершенно не так, как нужно! Вы знаете, он совершенно не понимает моей болезни.
— Как это грустно! — говорит Лев Николаевич.
— И вы знаете, я думаю, что я здесь совершенно не поправлюсь.
Голос больной начинает дрожать. Она, придерживаясь за стену руками, возбужденно и обиженно глядит на Льва Николаевича и говорит громко, так что все остальные — и больные и здоровые — внимательно прислушиваются…
Лев Николаевич вышел на улицу. Снаружи во всех направлениях бегают фотографы.
С другой больной во время представления случился истерический припадок: она разрыдалась, не хотела уходить, и ее насилу успокоили. Это — несмотря на то, что допущены в зал были только тихие больные.
Вообще же больные следили за представлением довольно спокойно, с несомненным интересом, но не проявляя его как‑либо особенно.
Не просмотрев программы и наполовину, мы уехали из больницы, причем Лев Николаевич расписался, по просьбе врачей, в книге почетных посетителей.
Проехали опять посреди групп народа. Только вернулись, как из соседней деревни явились в полном составе все домохозяева с женами и со старостой во главе — видеть Льва Николаевича. На руках держат корзинку и блюдо с яйцами. Он, хоть и был утомлен поездкой, вышел.
— Чем могу служить?