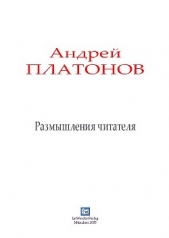Андрей Платонов

Андрей Платонов читать книгу онлайн
Андрей Платонов (1899–1951), самый таинственный и неправильный русский писатель XX столетия, прошел почти незамеченным мимо блестящих литературных зеркал эпохи. Однако ни в одной писательской судьбе национальная жизнь России не проявилась так остро и ни в чьем другом творчестве трагедия осиротевшего в революцию народа не высказала себя столь глубоко и полно. Романы, повести, рассказы, статьи, пьесы Андрея Платонова, большая часть которых была опубликована много лет спустя после его смерти, стали художественно веским свидетельством и сердечным осмыслением случившегося с русским человеком в великие и страшные десятилетия минувшего века. Судьба и личность Платонова никогда не ограничивались одной литературой и известны широкому читателю гораздо меньше, нежели его творчество. Между тем обстоятельства его жизни позволяют многое увидеть и понять в непростых для восприятия платоновских книгах. Алексей Варламов, известный прозаик и историк литературы, представляет на суд читателей биографию Андрея Платонова, созданную на основе значительного числа архивных документов и текстов, в том числе совсем недавно открывшихся, прослеживает творческий путь и воссоздает личностные, житейские черты своего героя, который, по выражению Виктора Некрасова, «в жизни не был писателем, но в писательском труде своем всегда оставался человеком».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Что ж в остатке? Покуда новоиспеченные колхозники устраивают пляски смерти на Оргдворе, чтобы забыться, упиться ими до самозабвения, Вощев бродит по смирной старческой деревне, собирая в мешок «все нищие, отвергнутые предметы, всю мелочь безвестности и всякое беспамятство — для социалистического отмщения», и если представить наглядно эту картину, то попросту сходит с ума, не вынеся увиденного и пережитого, сказав напоследок Насте: «Не расти, девочка, затоскуешь!» И Настя, точно вняв его вещим словам, заболевает, причем простужается она как раз во время и по причине жуткого торжества коллективизации, а потом умирает, оставив в безнадежной тоске и безверии тех людей, кто считал ее жизнь своим единственным смыслом и оправданием.
«И глубока наша советская власть, раз даже дети, не помня матери, уже чуют товарища Сталина», — говорил о Насте впоследствии убиенный кулаками Сафронов. Но перед смертью Настя чует не Сталина, и не Ленина, которым редакторы шестидесятых Сталина заменили, и не Буденного, который только на капельку хуже Сталина, — она зовет маму.
В платоновских «Записных книжках» 1930 года есть короткая, казалось бы, ничем не мотивированная и непроясненная запись: «Отменено слово „мама“».
Так вот — весь «Котлован» есть не что иное, как расширенное толкование этой записи, а точнее — вопль, протест против этой отмены.
«Хочу ее кости… Неси мне мамины кости, я хочу их», — просит Настя Чиклина. Эти фразы в новомирской и прочих публикациях «Котлована» были, а вот тот фрагмент, который следовал далее, товарищи-шестидесятники от греха подальше отсекли, исказив одну из важнейших, если не самую важную идею повести.
«…Чиклину долго пришлось отнимать камни от дверного входа, который он сам заваливал для сохранности покойной. Спичек у Чиклина не имелось, и он нашел женщину ощупью; сначала он коснулся ее волос, таких же свежих, как и при жизни, потом потрогал весь ее скелет до ступней, — она вся еще была цела, только самое тело исчезло и вся влага высохла. Унести скелет целиком было трудно, тем более что скрепляющие хрящи давно завяли; поэтому Чиклину пришлось разломать весь скелет на отдельные кости и сложить их, как в мешок, в свою рубашку. В рубашке, после помещения туда всех костей, еще осталось много места, — настолько женщина была мала после смерти.
Настя сильно обрадовалась материнским костям; она их по очереди прижимала к себе, целовала, вытирала тряпочкой и складывала в порядок на земляном полу».
Эта сцена усилена противопоставлением:
«Мимо барака проходили многие люди, но никто не пришел проведать заболевшую Настю, потому что каждый нагнул голову и непрерывно думал о сплошной коллективизации.
Иногда вдруг наставала тишина, только слышно было, как Настя шевелила мертвые кости, но затем опять пели вдалеке сирены поездов, протяжно спускали пар свайные копры и кричали голоса ударных бригад, упершихся во что-то тяжкое, — кругом непрерывно нагнеталась общественная польза».
Трагизм ситуации заключается не в том, что равнодушные люди нагнетают пользу, не ведая сочувствия и сострадания к умирающей девочке, трагедия в том, что они работают для нее. А ей это не нужно. Ей не нужно ничего, кроме мамы. И уже умирая, Настя просит Чиклина положить поближе мамины кости: «Я их обниму и начну спать». Это не было ни бредом, ни условностью, как читалось в первых публикациях, — все было буквально, и Чиклин действительно сложил кости к Настиному животу, а она за это, приподнявшись, поцеловала склонившегося человека в усы, подарив ему повторившееся счастье жизни. И вскоре после того — отошла.
«А девчонка, товарищ Чиклин, не дышит: захолодала с чего-то!»
Эту девочку зовут Анастасией, в переводе на русский — воскресение. Но настанет ли оно? Будет ли рассвет за тьмой колхозной ночи? Даже стойкий урод империализма неподкупный калека Жачев, наиболее непримиримый враг прошлого и рыцарь будущего, и тот не способен вынести ее гибели: «…я теперь в коммунизм не верю!» [39]
Похожее испытывает и Вощев: «…он уже не знал, где же теперь будет коммунизм на свете, если его нет сначала в детском чувстве и в убежденном впечатленье? Зачем ему теперь нужен смысл жизни и истина всемирного происхождения, если нет маленького, верного человека, в котором истина стала бы радостью и движеньем?
Вощев согласился бы снова ничего не знать и жить без надежды в смутном вожделении тщетного ума, лишь бы девочка была целой, готовой на жизнь, хотя бы и замучилась с теченьем времени. Вощев поднял Настю на руки, поцеловал ее в распавшиеся губы и с жадностью счастья прижал ее к себе, найдя больше того, чем искал».
В философском плане высшая идея «Котлована» может быть прочтена так: «мертвые — тоже люди», «все мертвые — это люди особенные», и независимо оттого, какими и кем они были при жизни, они — «умерли и хорошими стали, правда ведь?» (или, как более жестко выражена похожая мысль в «Записных книжках» периода работы над «Котлованом», «если сравнить живых с умершими, то живые говно»), И это даже важнее, чем то, что успехи высшей науки не сумеют воскресить назад сопревших людей — их и не надо воскрешать.
Сюжетно рабоче-крестьянская повесть заканчивается исходом — мрачной смычкой города и деревни. Мужики оставляют проклятую деревню, можно сказать, выходят из крестьянства в пролетариат, принимаясь работать «с таким усердием жизни, будто хотели спастись навеки в пропасти котлована», то есть фактически — вот еще один платоновский оксюморон — спастись в аду. Кто будет работать на земле, пахать, сеять, убирать урожай, кто станет пасти обобществленных коров и кормить лошадей, чтоб тех не растащили на куски собаки, кто, наконец, даст пищу обитателям общепролетарского дома, буде он даже построится на костях дорогих автору мертвецов («Ты зачем оставил колхоз, иль хочешь, чтоб умерла вся наша эсесерша?» — вопрошает Вощева Жачев) — все это выносится за скобки, но едва ли забывается. К этой теме обратится Платонов в «Ювенильном море» и в «14 красных избушках», написанных вослед «Котловану», а в самом «Котловане», правда, не в машинописном варианте, но в рукописном Вощев скажет: «Зимой колхоз не < 1 слово нрзб>, а летом будем добывать хлеб машинами и одним классом».
Идею уничтожения не кулачества, но всего крестьянства как класса автор «Котлована» изъял, и в повести акцентируется иное. Никита Чиклин, единственный герой, чья вера непоколебима и, если надо, он пойдет и убьет любых врагов социализма-коммунизма, вырывает глубокую могилу телу Насти. Усомнившиеся Вощев и Жачев на погребении присутствовать не будут. Их не допустят. Лишь медведь-молотобоец прикоснется к девочке на прощанье. А в «Записных книжках» снова сам Платонов, а не его двойник отметит: «Мертвецы в котловане — это семя будущего в отверстии земли». Но чего больше было в этих словах — ужаса, надежды, отчаяния, веры?
Впрочем, неким парадоксальным, снижающим трагический пафос ответом на эти вопросы можно считать авторскую зарисовку в «Записных книжках» 1932 года: «Рыли котлован под фунд<амент> клуба, нашли ветхий гроб без покойника и в нем четверть водки. Выпили. Водка была нормальная».
Глава десятая ДУРАК НОВОЙ ЖИЗНИ
У нас нет подробных сведений о том, насколько настойчивыми были попытки Платонова «Котлован» напечатать. Однако такие усилия предпринимались. Об этом можно судить по состоянию машинизированных рукописей «Котлована»; известно также одно из издательств, в которое автор намеревался повесть представить, — это харьковский «Пролетарий». В примечаниях к дневникам Всеволода Иванова содержится указание его сына, известного филолога Вяч. Вс. Иванова, что Вс. Иванов собирался опубликовать «Котлован» в журнале «Красная новь», но соответствует ли эта версия действительности, неясно.
Сохранилось выступление критика В. В. Гольцева на творческом вечере Платонова в феврале 1932 года. «Я очень мало знаю ваши произведения, имеющиеся в рукописях, но чтение отрывков из повести „Котлован“ слушал в „Новом мире“. Эта вещь поразила меня своей законченностью, — говорил Гольцев, а далее задавал вопрос, раскрывавший суть его оценки: — Чем же вы объясняете свой достаточно резкий поворот направо. Вы как бы „перестроились“, только перестроились слева направо… когда у нас во всей стране и литературе происходили диаметрально противоположные идеологические и творческие сдвиги?» — «…я ослаб и поддался настроениям упадка», — отвечал ему Платонов, однако ничего конкретного о «Котловане» ни на этом вечере, ни во время других выступлений не сказал, и упоминание о повести встречается лишь в платоновском ответе на анкету «Какой нам нужен писатель?» рапповского журнала «На литературном посту».