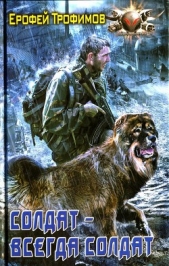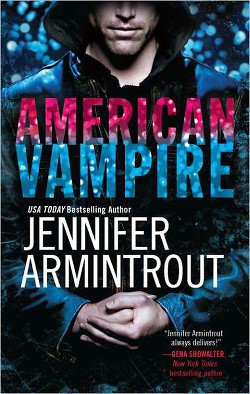Так затихает Везувий. Повесть о Кондратии Рылееве

Так затихает Везувий. Повесть о Кондратии Рылееве читать книгу онлайн
Книга посвящена одному из самых деятельных декабристов — Кондратию Рылееву. Недолгая жизнь этого пламенного патриота, революционера, поэта-гражданина вырисовывается на фоне России 20-х годов позапрошлого века. Рядом с Рылеевым в книге возникают образы Пестеля, Каховского, братьев Бестужевых и других деятелей первого в России тайного революционного общества.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но не только себя утешал он этой видимостью житейских забот, Наташа, входя в круг непривычных для нее обязанностей главы семьи, отвлекалась от горестных мыслей.
Эти письма шли к жене весь апрель, май, июнь.
С каждым письмом все более погружаясь в некогда постылые житейские заботы, сетуя на Наташу, отославшую книгопродавцу Смирдину целую кипу новых книг, считая, что за них не заплачено, посвящая половину писем приветам и благодарностям родным и знакомым, не оставляющим своим вниманием его семью, он томился до отчаяния от отсутствия друзей, которые всегда были рядом. Размышлять вместе с ними, спорить, сочувствовать им, внимать ответному слову дружбы…
Бумага, на которой он писал письма и показания, была нумерованной. Послать письмо друзьям — никак. Да и решатся ли его безмолвные стражи передать? Он догадывался, что многие из его товарищей рядом, за глухими стенами Алексеевского равелина, но как преодолеть ничтожное это расстояние?
Разговаривать со стражами бесполезно. Но однажды, когда сторож приносил ему обед, он сказал вслух, не надеясь на ответ:
— Поди, деревья уже распустились…
Ответа не последовало. Но на следующий день также молча сторож принес ему несколько ярко-зеленых, свежих кленовых листьев и сам, растроганный то ли своим, геройским поступком, то ли восторгом узника, шепнул:
— Пиши письмо.
Не зная, кому он пишет, он наколол на листьях стихи, какие давно сложились и повторялись про себя, как молитва.
Этот крик души беззвучно раздался в Алексеевском равелине в надежде, что кто-нибудь откликнется.
Ответ пришел через три дня. Сострадательный страж Никита Нефедьев отнес его в дальнюю камеру, отделенную от других, называвшуюся «офицерской», где находился Евгений Оболенский.
Лучшего адресата он не мог бы найти, если бы даже задался такой целью.
На мятых обрывках оберточной бумаги наколотые толстой иглой буквы запрыгали перед глазами Рылеева. Со всем пылом своей восторженной души Оболенский, писал, что радость его может понять только тот, кто испытал невидимое соприкосновение, какое внезапно объемлет душу, когда нечто родное, близкое коснется ее. При чтении строк Рылеева он как бы заново постиг самого себя. То, что мыслил, чувствовал Рылеев, сделалось его мыслью и чувством. Его болезнь сделалась своей болезнью, его уныние охватило всю душу, его вопиющий голос звучал в ушах, как собственный. К кому же он мог обратиться с этой радостью, пронизанной скорбью, с этой скорбью, излучавшей радость? К всевышнему, к какому обращался все дни заточения. Он пал на колени и молился…
Взволнованные, сбивчивые эти строки, будто вслух произнесенные высоким, теноровым голосом Оболенского, заставили на несколько минут забыть свое одиночество, испытать отраду души вместе с другом.
В обед догадливый Нефедьев принес еще несколько кленовых листьев и положил их в самый темный угол, недоступный глазу надзирателя. И снова в «офицерскую» камеру проникло новое письмо.
Рылеев писал:
«Любезный друг! Какой бесценный дар прислал ты мне! Сей дар чрез тебя, как чрез ближайшего моего друга, прислал мне сам спаситель, которого давно уже душа моя исповедует. Я ему вчера молился со слезами. О, какая это была молитва, какие это были слезы и благодарности, и обетов, и сокрушения, и желаний — за тебя, за моих друзей, за моих врагов… за мою добрую жену, за мою бедную малютку: словом, за весь мир! Давно ли ты, любезный друг, так мыслишь, скажи мне, чужое ли это или твое? Ежели эта река жизни излилась из твоей души, то чаще ею животвори твоего друга. Чужое оно или твое, но оно уже мое, так как и твое, если и чужое. Вспомни брожение ума около двойственности моего духа и вещества».
Какими неясными, зыбкими словами объясняешь себя, когда душа переполнена благодатью содружества!
Проснулся, не помня сна, не зная, сколько спал. В камере все тот же грязный сумрак. Вдруг, спросонья верно, будто явственно прозвучал чужой, незнакомый голос:
— День пултуской победы, четырнадцатого декабря, пришелся на день святых мучеников — Фирса, Аполлония, Левкия и прочих. В этот день надлежало петь кондак: «Благочестия веры поборники, злочестивого мучителя оплеваше, обличисте звероподобные его кровопролитие и победише того яростное противление, христианскою помощью укрепляемы…»
Он слышал когда-то эти слова. Но откуда сейчас? Почему? Ах, это именинный обед у Прокофьева, российско-американского директора, карла с незабудками, Греч, те счастливые деятельные дни, когда казалось, что делаешь то, что нужно, и только надо делать еще больше, еще быстрее. Счастливые дни. Разве можно их предать, оболгать нынче? Все, что он делал, чем жил последние годы, было направлено всего лишь к благу отечества, не осквернено ни одной мыслью о личной славе, о будущей власти. Тут не было ни тени честолюбия, ни следа корысти. Он не был доволен собой в эти годы не потому, что делал не то, что следует, а потому, что делал мало. Так казалось ему тогда.
Но четырнадцатое декабря… Этот голос какого-то московского протоиерея, прозвучавший сейчас так явственно, напомнивший лучшие дни и роковую дату. Он был чист и благороден, пока не призвали его к ответу там, в Зимнем…
Понять бы, что произошло там, в Зимнем. Не испугался же он Бенкендорфа и Толя, не испугался и собственной гибели — сколько раз было говорено о неудаче. Все, кажется, приучены были к этой мысли. Так зачем же он так мгновенно, простодушно и быстро открылся перед этими чиновничьими, недвижными, как маски, харями, перед их каменными сердцами? Что это — воспоминание о трупах и кровавых пятнах на снегу на Сенатской? Разбитые стекла в Зимнем, зияющие черной пустотой, когда ночью Дурново вез на допрос? А может, просто слабость, чудовищная слабость после немыслимого напряжения рокового дня четырнадцатого декабря? Апатия, когда ясно, что все потеряно и стало все-все равно? А может, слабость — это и есть трусость? Все потеряно, но сам-то еще живой, и значит… Не по плечу! Задуманное было не по плечу. Но это еще не преступление. Впрочем, кто-то, Наполеон кажется, сказал: «Это больше, чем преступление. Это ошибка». Такими категориями мог мыслить и Пестель. Впрочем, на допросах и Пестель был откровенен. «Чистосердечен», как это называлось на языке наших следователей. Да что там Пестель! Очные ставки показали, что все были чистосердечны. По крайней мере те, с которыми пришлось столкнуться, — Каховский, Александр Бестужев, Якубович… Бог им судья, а я не вправе.
Но почему же сейчас, когда все кончено, мысль упорно ищет чью-то вину? Свою вину, чужую вину? Кому он нужен, ответчик?
Верно, время наступило держать ответ не перед собой, не перед семьей, а перед историей. Неясно, останется ли воспоминание о Сенатской площади, о всех, кто устремлялся туда. Их имена наперекор судьбе и року постараются изгладить из памяти людей. Но есть еще слова, каких не вырубишь топором.
Он приподнялся на постели и начал тихо, почти шепотом, читать: