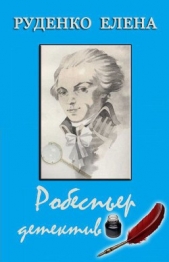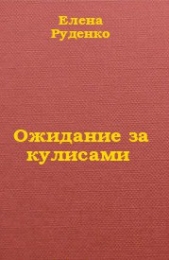Максимилиан Робеспьер

Максимилиан Робеспьер читать книгу онлайн
В замечательной книге А. П. Левандовского рассказывается о жизни Максимилиана Робеспьера — выдающегося деятеля Великой французской буржуазной революции. Для широкого круга читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Массы санкюлотов встретили новые законы с радостью. Торжествовали и левые якобинцы, программу которых осуществлял Сен-Жюст.
Иначе восприняли вантозские декреты эбертисты. Эбер и его друзья не скрывали своего раздражения. Декреты, склонявшие симпатии бедноты на сторону Робеспьера и Сен-Жюста, были для них ножом, приставленным к горлу: ведь только на эти симпатии они и рассчитывали, ведя борьбу против революционного правительства! Теперь почва, казалось, уходила из-под их ног. Надо было отвечать, и отвечать немедленно!
В те дни, когда Сен-Жюст с трибуны Конвента провозглашал расширение революции, а эбертисты накапливали силы для реванша, и Робеспьер и Кутон оказались временно выбитыми из седла: оба были больны.
Максимилиан лежал на своей спартанской постели и смотрел в окно. Его мучил жар. Болезнь подкралась неожиданно, как раз в тот момент, когда его присутствие и в Конвенте и в клубе было необходимым. Ну, не насмешка ли это судьбы? Он лежит здесь беспомощный и полуживой, его поят лекарством и обкладывают компрессами, а там, быть может, решается судьба дела всей его жизни. Заговорщики уже окружены, но не прорвут ли они опоясавшую их цепь? Справится ли Сен-Жюст один на один с врагом, сумеет ли выдержать напор до прихода подкрепления? Для Робеспьера не было тайной, что оппозиция существует и в правительстве. Оппозиция пока, правда, глухая. Но кому известно, что будет завтра? Жирондисты когда-то обвиняли его в стремлении к тирании; не называют ли его сейчас за глаза тираном?
Да… Время прошло, но злоба сохранилась. Она спряталась, ее окутало лицемерие, но она не стала от этого меньшей. Неподкупный вспоминает, как некогда, в ранней юности, сколько претерпел он, начинающий адвокат, от недоброжелательства своих старших коллег лишь за то, что отличался от них, что его любил народ. Народ!.. Он и сейчас остается единственным его утешением. Один лишь народ не лицемерит, один народ ему верит и его любит. Вот и теперь, сколько простых людей приходит ежедневно справиться о его здоровье, выразить заботу и внимание, пожелать новых сил… Разве можно оставаться равнодушным к этому?..
Взор Максимилиана старается отыскать в голубеющих сумерках там, за окном, шпиль Якобинской церкви. Нет, шпиль отсюда не виден. О, как бы он хотел знать, что происходит сейчас там, под этим шпилем! Быть может, у якобинцев разыгрывается сражение, битва не на жизнь, а на смерть!..
Жар одолевает больного. Мысли путаются, красные круги вертятся перед глазами, затем вдруг все проваливается в какую-то черную горячую пропасть.
Буря действительно разыгралась, но местом ее оказался не Якобинский клуб, а Клуб кордельеров.
Давно уже не видели в клубе такого стечения народа, как сегодня, 14 вантоза. Казалось, все ждут чего-то необычного. И вожаки эбертистов постарались не обмануть ожиданий рядовых членов.
Началось с оглашения проспекта новой газеты «Друг народа», посвященной памяти Марата. Потом принесли черное покрывало. Для чего оно? Им решили завесить Декларацию прав. Завеса сохранится до тех пор, пока народ не уничтожит клику «снисходительных» и не добьется восстановления своих прав.
На трибуну поднимается Венсан. Он громит «снисходительных». Он устанавливает полное тождество между взглядами их лидеров; он говорит, что их заговор более опасен, чем заговор Бриссо. Только «святая гильотина» может спасти положение и предотвратить гибель свободы!
Затем встает Карье, страшный наместник Нанта. Сверкая глазами, обличает он тех, кто хочет сломать эшафоты только потому, что сам боится на них попасть.
— Восстание, — кричит он, — святое восстание, вот что надо противопоставить злодеям!
Восстание?.. Многие переглядываются. Но против кого же? Против кого восставать, если не против правительства? Значит, оплевывание «снисходительных» не более чем предлог для перехода к атаке против Робеспьера! Эбер, сменивший Карье, спешит рассеять сомнения.
— Самыми опасными, — утверждает он, — являются не воры, а честолюбцы. Чем большей властью они завладевают, тем ненасытнее становятся; они стремятся к единоличному господству!
Намек вполне прозрачный: о ком же может идти речь, кроме Робеспьера? Все более повышая голос, оратор продолжает:
— Я назову вам этих людей, заткнувших рот патриотам в народных обществах…
Однако он никого не называет. Несколько секунд длится тягостное молчание. Ярость борется со страхом. Наконец, овладев собой, он говорит более спокойно, как бы оправдываясь перед присутствующими:
— Вот уже два месяца, как я сдерживаюсь, но больше сердце мое выдержать не может. Я знаю, что они замыслили; но я найду защитников.
— Да, да, — раздается несколько голосов, — мы защитим тебя! Не бойся ничего, отец Дюшен, говори начистоту! Мы сами станем отцами Дюшенами и нанесем удар! Говори, мы тебя поддержим!
Но ни обещания поддержки, ни уверения в преданности не могут заставить эти искривленные, дрожащие уста произнести имя, которое все ждут и боятся услышать. Нет, у него не хватает сил. Он в состоянии выдавить из себя только фразу, смягченную, чуть ли не извиняющую. Он говорит о «…человеке, вероятно впавшем в заблуждение», и смущенно останавливается. Затем уже без всякого подъема, понимая, что отсутствием мужества сам убил вызванный вначале порыв, он напоминает, что этот человек защищал Демулена. Никакой более серьезной вины в своем смятенном уме он отыскать не может.
Но заканчивает Эбер тем же призывом, что и Карье:
…Восстание! Да, именно восстание! Кордельеры первыми подадут сигнал, который должен сразить всех угнетателей!
Речь, как и предыдущие, встречена аплодисментами. Но момент упущен. Энтузиазм угас. Всем ясно, что если он, их вождь, их признанный глава, струхнул и не смог произнести даже имени, то на что же надеяться?
Венсан, внимательно наблюдавший за аудиторией, видит вытянутые лица и бегающие глаза. Испугались! Или, быть может, здесь присутствуют шпионы? Чтобы «сорвать маски с интриганов», он совершает обход, требуя предъявления членских билетов. Напрасная мера! Разве не видно и так, что все кончено, еще не начавшись?
Надежды эбертистов на поддержку масс были тщетными. Париж не пошевельнулся. В отчаянии вожаки попытались увлечь Коммуну. Они явились в ратушу с заявлением, что будут держаться наготове и сохранят Декларацию прав завешенною до тех пор, пока не истребят врагов народа. Однако Шомет, выражавший мнение левых якобинцев — членов Коммуны, не только отказался примкнуть к восстанию, но и осудил авантюру эбертистов. Не поддержали их и секции. Все рушилось. Нужно было срочно трубить отбой.
Между тем Комитет общественного спасения готовился нанести заговорщикам смертельный удар. Член Комитета Колло д’Эрбуа был взволнован. Все знали о его приверженности к эбертизму. Но что мог сделать Колло? Один в поле не воин. Выступить заодно с эбертистами — значит погубить себя. Губить себя не хотелось. Что же, не сумели сделать дела как следует, пусть отвечают сами; ему остается только умыть руки. И, судорожно сжимая кулаки, усилием воли сдерживая свой огненный темперамент, Колло сдается. Мало того: он даже согласен во главе депутации якобинцев отправиться в Клуб кордельеров в качестве карателя.
Кордельеры по-братски принимают депутацию. Колло поднимается на трибуну под гром аплодисментов.
— Пусть тот, кто завесил Декларацию прав, — говорит Колло, — укажет нам тирана!
Он объясняет, что настоящее время в корне отлично от дней 31 мая — 2 июня 1793 года. Тогда восстание явилось необходимым потому, что Гора была угнетена; теперь же Конвент в целом отстаивает интересы народа. При этом смуту сеют в то время, когда идет война, когда Питт пророчит французам антиправительственный мятеж!
Трепещущий Эбер пытается доказать, что, говоря о восстании, он-де имел в виду только более тесное единение с монтаньярами, якобинцами и всеми добрыми патриотами. Карье также уверял, что газеты все переврали, что речь шла лишь об условном восстании. Кого могли убедить подобные фразы?