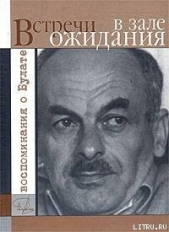Книга прощаний

Книга прощаний читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Словом, у меня - у меня, настаиваю на своей субъективности, – нет оснований, чтобы опровергнуть Сергея Довлатова: «К сожалению, я убедился, что в мире правят не тоталитаристы и демократы, а зло, мизантропия и низость. Конфликт Максимова с Эткиндом – это не конфликт авторитариста с либералом, а конфликт жлоба с профессором, конфронтация Максимова с Синявским – это не конфронтация почвенника с западником, а конфронтация скучного писателя с не очень скучным. Разлад Максимова с Михайловым (Михайло Михайлов – югославский диссидент. – Ст. Р.) – это не разлад патриота с «планетаристом», а разлад бывшего уголовника с бывшим политическим». (Письмо 1984 года.)
Что же до неосновательных подозрений Булата, то ему они нежданно отозвались. По неисправимой привычке объяснять разногласия наипростейшим из способов, что было бережно перенесено сварливо-сутяжной эмиграцией «третьей волны» из советского быта, Максимов при случае пустил тот же слух о нем самом; в отличие от него – публично. Меж ними произошел разрыв; потом: «Знаешь, – сказал мне Булат, – я решил Володю простить, мне его жалко» (а я отнесся к его толстовству без одобрения); кончилось вульгарной бранью в «Правде» и соприродных изданиях: «партийные младотурки (? – Ст. Р.) вроде Булата Окуджавы», «знаменитый на всю страну престарелый гитарист, полагающий себя почему-то большим аристократом (Господи, и откуда эта спесь в потомке тифлисских лавочников!)…»
Я и сам, может быть заболев манией грандиоза – в легкой, надеюсь, форме, – ждал очереди. И почти с облегчением (наконец-то, мол!) встрепенулся, встретив свой очевидный портрет в прозе, в романе «Карантин»: там вокруг «певца» (Окуджава!) кучковалась компания, в которой с легкостью узнавались Левитанский, Ломинадзе, Сарнов и – «крепенький еж в тройке из дорогого вельвета», как и прочие, изображенный вполне беззлобно. Ну, может, чуть иронически – этакий самозабвенный фанат, лепечущий имя кумира: «Булат!… Булат!…»
По обычаю простодушных моделей, и от Модильяни с Пикассо ждавших фотографической точности, я принялся было ревниво прикидывать: ладно, прическу-ежик я в самом деле носил, но с чего бы, не замечавшийся во франтовстве, оказался здесь столь респектабелен? Дорогойвельвет… И – догадался! В оные времена, возникая из своих «исчезновений», Максимов, бывало, являлся ко мне в вышеописанном виде; я одевал его во что было, зная: и эта рухлядь отправится в скупку – и лишь однажды (тайно!) посожалел хотя и также о ношеных, однако любимых вельветовых брюках. Но он-то как догадался о скрыто- стыдном моем скупердяйстве?…
Шутка шуткой, но я слишком рано решил, что – пронесло. Грянул гром и над моей головой. Уже в перестройку пришла от Максимова инвектива, где, в частности, обличались «рассадины-рыбаковы-коротичи» (так я не по чину очутился в одной триаде с двумя именами-символами), которые, дескать, ничего не забыли и ничему не научились. Правда, смысла этих «ничего… ничему…» не понял не только я сам, но и мой друг Натан Эйдельман, каковой, оказавшись в Париже, приступил к редактору «Континента» с допросом. Отдав на растерзание Коротича и Рыбакова, Натан решил отстоять мою честь: к Стасику-то вы какие претензии можете иметь?
«24. XI. (1988 года. - Ст. Р.). Утром звонок Максимова. О Стасике – Максимов готов извиниться» (из дневника Эйдельмана). Но было поздно. Рассвирепеть решил уже я: в огоньковской статье напомнил ему и про панегирик хрущевской расправе, и про кочетовщину, и про памятно сказанное по ТВ: «наш учитель Ермилов»… Он, разумеется, отвечал, например, присвоив мне титул – «полицейский Геракл» или как-то еще смешнее.
Тогда это было вправду смешно. Теперь… Не знаю. Пишу, вроде бы продолжая посмеиваться, но невеселый выходит юмор – да и выходит ли вообще?…
Разумеется, кто-нибудь скажет: сосредоточился не на том, не на главном, принизил, опошлил – подобное так неизбежно, что даже скучно воспроизводить гипотетические упреки. По правде, не думаю, чтобы принизил. Глава писалась без заданной цели: что вспоминалось, то и вспомнилось. Я, как в иных частях этой книги, находился и нахожусь не выше и не ниже своего личного опыта, не стремясь за его пределы, и он, мой опыт, при желании может даже помочь тем, кто воспринимает Максимова совершенно иначе. Немногие лучше и ближе меня знают часть пути, которую Максимов должен был миновать, чтобы сыграть ту роль, которую каждый из нас волен воспринимать по-своему. Вы – так, я – иначе, только всего.
И если мне что-то действительно хочется (хочется!) вспоминать, то уж никак не грозный образ верховного диссидента, держащего в страхе европейскую либеральную демократию, а…
Например: Володя Максимов покупает во время хронического безденежья толстые советские макароны, поливает томатным соусом, называя это блюдо – «спагетти», и, надев черный костюм (так-то он, купленный нами вместе, был серым, но после одного приключения, о характере коего умолчу, пришлось перекрасить) и белую сорочку с галстуком, отправляется в недальний Сокольнический парк – слушать играющий бесплатно духовой оркестр. Приобщается к классической музыке.
Или: по приезде в Тамань сразу бежим купаться, залезаем в волны пролива, и он, тощенький, бледный, стоит по пояс в воде и по-детсадовски брызгается, слабо смеясь…
Хочется зареветь.
СУМАСШЕДШИЙ ГЛАЗКОВ
Поэты похожи на свои стихи, как собаки на своих хозяев.
Ранней осенью 1960-го, в Тамани, я услыхал от Эмки Коржавина стихотворение, очаровавшее сразу и наповал: «Ни одной я женщины не имел и не ведал, когда найду. Это было на озере Селигер в 35-м году…»
В год моего, почему-то отметилось сразу, рождения.
То есть имя автора, Николая Глазкова, и отдельные, почти фольклорные строки достигали меня и в студенческой юности. Первым делом, конечно, всем памятное:
Я на мир взираю из-под столика.
Век двадцатый – век необычайный.
Чем столетье интересней для историка,
Тем для современника печальней
.
Причем «из-под столика» – это казалось многозначительной метафорой подпольного существования, а возможно, и было ею. Вернее, стало, спроецировавшись на судьбу непечатаемого поэта, но, как выяснилось позже, возникло бесхитростно. Глазков, проигравши, не помню, в карты или в свои любимые шахматы, по условию сочинял стихи, сидя под самым натуральным столом.
Или:
Мне говорят, что «Окна ТАСС»
Моих стихов полезнее.
Полезен также унитаз,
Но это не поэзия.
Да и словечко «самсебяиздат», давшее Глазкову некоторое основание похвалиться: «Самиздат» – придумал это слово я еше в сороковом году», – и оно стало известно мне гораздо раньше, чем привелось увидеть глазковские книжечки, отпечатанные им самим на машинке; неологизм красовался, гордо и жалко, взамен недоступного «Советский писатель» или «Молодая гвардия». Но тут, рядом, был живой, родной Эмка, своей фактурностью удостоверявший реальность «Коли», который еще в 1945 (!) году адресовал ему стихи:
Ты пишешь очень много дряни,
Лишь полуфабрикат-руду,
Но ты прекрасен, несмотря ни
На какую ерунду.
Положим, именно этих строк мой друг тогда отнюдь не цитировал, зато рассказывал, например, как в голодный послевоенный год они с «Колей» торговали на рынке, кажется на Тишинском, папиросами – поштучно и контрабанд- но. И когда Коржавина замели при облаве, длинноногий Глазков бежал, впрочем потом рассудительно обосновав необходимость своей ретирады:
– Понимаете, Эмма, я держатель товара, и, если бы вместе с вами арестовали и меня, вам было бы еще хуже.
В общем, легенда помаленьку обрастала шершавой плотью, и, хотя подобное не всегда помогает понять сущность поэта – чаще, наоборот, мешает, как всякий излишек, – я узнавал, познавал Глазкова, входя в его мир, где нежность косолапо притворялась цинизмом, а опыт тосковал по временам наивности:
Тиховодная гладь, байдарка и прочее,
Впрочем, молодость хуже, чем старость,
А была очень умная лунная ночь,