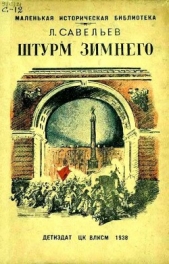Близкие и далекие

Близкие и далекие читать книгу онлайн
Сборник составляют написанные Константином Паустовским в разные годы очерки, статьи, главы из книг о знаменитых писателях, таких как Эдгар По, Оскар Уайльд, Иван Бунин, Александр Блок, Алексей Толстой и др. Составитель сборника Л. Левицкий.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Люди любят рассуждать о счастье. Но никто не знает, что самое большое счастье — в понимании. Он не хотел ни славы, ни покоя. Он хотел только одного — чтобы окружающие поняли, что его воображения и умения радовать хватит на тысячи людей, а не на двух-трех.
Ему хотелось дарить без конца. И чем больше он дарил, тем становился богаче.
Он мог, сидя на камне у перекрестка, рассказать маленькому негритенку свой новый замысел. Этот замысел был так похож на сказку, что Аллан сам смеялся от неожиданности, когда рассказывал его. И негритенок тоже хохотал и хлопал себя по бокам черными руками.
Он мог сказать случайной попутчице в дилижансе о своей любви к ней, начавшейся сейчас, внезапно. Конец этой любви был близок — на первой же остановке, где она сойдет. Но вместе с тем Аллан знал, что конца этой любви не будет. Потому что есть память, и она не даст покоя.
Аллан так ясно представлял себе эту встречу, как будто он должен был тотчас сесть к столу и написать о ней. Усталое от дороги лицо молодой женщины, визг чайки над тусклой водой, фырканье лошадей, скрип песка под колесами — и потом, после нескольких его слов, мир каким-то чудом зацветет вокруг.
Женщина подымет глаза, улыбнется, и он заметит смятение на ее лице. Кто этот человек? Гость из той страны, о которой мы иногда думаем втихомолку, но не верим в ее существование? Или безумный?
Почему солнце прорвало гряду сырых облаков и морская пена ослепительно засверкала, как взбитый снег? Почему возница запел о той, что похитила его сердце, ничего не сказав о любви? Почему с далеких холмов доносится гул леса, а редкие капли дождя тяжело бьют по крыше дилижанса? Почему радуга опрокинулась над равниной, как пограничная арка? Что это за густое жужжание? Неужели золотой жук пролетел за окном? Почему дрожит ее рука и губы силятся сказать: «Кто вы? Не надо было говорить мне этого».
Он знает, что она права, что он разрушил освященное годами течение жизни, что отныне ее комната с полосатыми обоями, голос мужа, треск кофейной мельницы и добропорядочные гости — все это покажется мертвым и скучным, как обыденный день, заполненный заботами свыше сил.
«Меня могут обвинить в пристрастии к женщинам и детям», — подумал Аллан.
Ну, хорошо. Вспомним другое. Больницу в Морристоне, когда на соседней койке умирал лесоруб. Его придавило сосной, и старику больше ничего не оставалось, как умереть.
И он умер, конечно. Но ночью, за два часа до смерти, он открыл глаза и спросил Аллана:
— Сосед! А, сосед! Вы знаете, что такое леса?
— Знаю, — ответил Аллан, немного подумав. — Это, пожалуй, то же самое, что океан, если смотришь на него с одинокой вершины. Они шумят, колеблются, и солнце закатывается в листве, как в темной бездне. И если птица сядет над головой и прокричит пять раз, то, значит, где-то здесь, в пяти ярдах, зарыт старинный клад. Его легко отыскать и вытащить из песка, окованный железом сундук. Можно разбить его и найти там — нет, не дублоны! — а подвенечное платье для вашей дочери. Ее, кажется, зовут Чармен?
— Да, — сказал лесоруб, — ее зовут Чармен.
— А вам случалось, — спросил Аллан, — встречаться с глазу на глаз с медведем?
— Еще бы! — ответил лесоруб. — Он долго смотрел на меня своими зелеными буркалами, потом мы подмигнули друг другу и разошлись. Мы лесные жители, и нам незачем задираться. А Чармен, — неожиданно добавил лесоруб, — всего девятнадцать лет. Я написал ей, что скоро поправлюсь.
Чем можно было его утешить? Только ложью.
— Вы знаете, — сказал Аллан, — стоит вам закрыть глаза, поглубже вздохнуть и вызвать в памяти Чармен — и все случится так, как вы хотите. Попробуйте! Ну! Ветер всегда затихает к вечеру, и солнце освещает сосны над вашей лачугой. Смотрите на небо сколько вам угодно, но вы увидите только одно-единственное облако, такое маленькое, как перо, потерянное сойкой. И больше ничего. Я же знаю — вам хочется дождаться, когда темнота настолько сгустится, что в ней заблестят звезды. Это значит, что пора ужинать. И ужин, конечно, готов — Чармен гремит мисками и напевает песенку. Ах, черт! Я позабыл ее слова.
— А-а, — догадался лесоруб, — это, должно быть, о том нищем медвежонке, что клянчил у девочки милостыню?
— Да, да! Это та самая песенка. Я вспомнил. И я спою ее, но тихо, чтобы не услышали сиделки. Они думают, что все доставляющее нам радость служит во вред.
Он начал напевать:
Лесоруб уснул под эту песню и так и не проснулся. Жизнь затихла в нем, как отдаленный звон.
Лесоруба похоронили на кладбище недалеко от больницы. Между зеленых могил паслись стреноженные лошади.
Аллан вызвался сделать на деревянном кресте эпитафию. Он написал:
«Здесь спит Томас Бирн, лесоруб, 63 лет, убитый упавшей сосной. Он всю жизнь трудился и потому был благородным человеком. Да упокоит его господь в селеньях праведных».
Аллан выздоравливал и доживал в больнице последние дни. Он часто ходил на могилу Бирна. Ему нравилось думать, что под этим еще не заросшим травою холмом лежит человек, который мог бы стать его другом.
Они бы наверняка сошлись, потому что лесорубу не надо было объяснять всех сложностей жизни, подтачивавших существование Аллана. С ним Аллан отдыхал бы за разговором о том, как надо разводить пилу и подманивать птиц.
Перед тем как покинуть больницу, Аллан написал дочери лесоруба о последних минутах отца. И тотчас исчез, как бы боясь, что Чармен приедет и застанет его в Морристоне.
Аллан подошел к окну. Океан разыгрывался и сотрясал берега.
— Никогда! — сказал Аллан и поежился от холода. — Никогда! — повторил он.
Никогда не вернется прожитая жизнь. Ему было жаль ее. Если выбросить годы нищеты, утрат и путаницы, возникавшей почти при каждом общении его с людьми, то все же останется несколько десятков дней, ласковых и тихих, как падение этого снега.
Вирджиния умерла. Ее звали «Троицын цвет». Так зовут в этом штате весенний легкий цветок.
Он виноват в ее смерти. Он был не способен заработать несколько десятков долларов, чтобы позвать врача, протопить эту старую лачугу, создать Вирджинии хотя бы подобие покоя. Он мог только мечтать. Это было единственным делом его жизни.
Что он мог еще? Только укрывать Вирджинию своим рваным пальто, когда она лежала в жару на соломенном тюфяке. И, отвернувшись, глотать слезы. Даже бродячий кот, прижившийся в их доме, знал лучше Аллана, что было нужно делать. Все последние ночи он лежал на груди у Вирджинии и согревал ее своей теплотой.
Тогда была такая же зима и океан шумел так же, как и сейчас, — ему не было дела до страданий Вирджинии. Тысячи лет он накатывал на землю горы зеленой воды. Это занятие было таким величественным, что людские горести казались перед ним мимолетными, как шорох песчинки.
— Неужели никогда? — спросил Аллан и повернулся лицом к темной комнате.
Как долго он живет с этими скудными вещами! Как безропотно они несут вместе с ним тяжесть существования! Они были здесь при Вирджинии. Она прикасалась к ним. С ними можно было разговаривать вполголоса, но все равно не услышишь от них ни одного слова в ответ.
— Почему вы живете, а ее нет? — громко спросил Аллан.
Вещи молчали.
— Ну, ничего, — сказал Аллан, — не обижайтесь. Я никогда вас не брошу.
Вещи не отвечали.
— Боже мой! — сказал Аллан. — Как пережить эту ночь!
Он сел к столу и начал писать. Это его немного успокоило, хотя он и знал, что каждый его новый рассказ вызовет злое, а в лучшем случае почтительное недоумение. В Америке к нему относились как к пришельцу с чужой планеты.