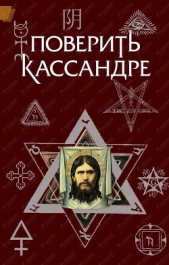Между двух революций. Книга 3

Между двух революций. Книга 3 читать книгу онлайн
«Между двух революций» — третья книга мемуарно-автобиографической трилогии Андрея Белого. Перед читателем проходят «силуэты» множества лиц, с которыми писатель встречался в Москве и Петербурге, в Мюнхене и Париже в 1905–1912 годах. Интересны зарисовки Блока и Брюсова, Чулкова и Ремизова, Серова, Жана Жореса, Коммиссаржевской и многих других.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Был жив и умен Кузнецов, развивавший градацию экстравагантных порывов; мне помнится он в желтом, клетчатом; талия же — с перехватом; старообразное, бритое, но интересное умной игрою лицо — чуть-чуть… песье; был весел и мил Дриттенпрейс, моложавый и длинный: в очках; вид — романтика: из Геттингена. И всюду мелькал губастым таким арапчонком — немного смешной, загорелый художник Арапов; как месяц, сквозной меланхолик, чуть сонный, склоненный, как сломанный, — бледно немел Сапунов, вид имея такой, что вот-вот он опустится в волны плечей и шелков, над которыми встал он; и он — опустился… на дно Балтийского моря… И бледные, чернобородые греки ходили сюда — Милиоти: талантливый брат, Николай, с неталантливым, злым интриганом, Василием, нашим врагом; с другим греком года сухо резался здесь этот грек: с М. Ф. Ликиардопуло; бывший присяжный поверенный, черным своим сюртуком и галантными серыми брюками (черной полоской) держался «окончившим университет»; Милиоти всегда ловко дергал за ниточку Н. Рябушинского; казался красавец этот — куафером; не зубы, а — блеск; губы — пурпуры; жемчуги — щеки; глаза — черносливы; волной завитой волоса, черней ваксы, спадали на лоб; борода, вакса, — вспучена: ее не выщиплешь — годы выщипывай: очень густа! Не хватало берета с пером: валет пиковый, но — отпустивший растительность. Помню Сарьяна, который, вниз свесивши черные усики, мрачно ходил и рассеянно, сухо совал свою руку, не глядя, кому он сует; был — зеленый, худой, пожираемый думой; когда морщил лоб, брови сращивались; и не знал я тогда: через двадцать лет с лишним Сарьян, — пополневший, усталый, — Армению с добротой приоткроет; и будет возить — в Аштарак, Айгер-Лич, в Баш-Гарни, в древний Вагаршатап, на Севан; 125 он мне камень живил, на снега Арарата показывал; в эти года был кофейного цвета пиджак у него. Был нелеп Ларионов, таскаемый молокососиком всею семьей Трояновских, как в люльке; откуда с большою охотой выпрыгивал он: помню длинные ноги его; высоко не летал, но — подпрыгивал, нам улыбаясь не то глуповато, не то удивленно, что так он талантлив; меня удивляла его голова: шириною — в длину, а длиной — в ширину.
С голуборозниками дружил; ненавидел меня Милиоти Василий.
Отдельно держались Досекины; Сергей скоро умер; Николай же видался года. С головы до пят мирискусник, скептически, но снисходительно молокососикам-голубо-розникам палец дававший сосать, Игорь Грабарь, такой темно-розовый, гологоловый, почтенный, — ученым сатиром шутил с Остроуховым, с Брюсовым; он собирал материалы к истории памятников, тратя все средства свои на культурное дело это, метаясь по разным медвежьим углам; он являлся оттуда, хвалясь материалами; а как художник работал он мало, давая игру хрусталей, скатертей и букетов, кричавших о радости. Где-то между Поляковыми и Марьей Ивановной Балтрушайтис, роняя в костлявые пальцы лицо, локти — в ноги, ворчливо показывал свой длинный нос всей Москве из-за пальцев «московский Бердслей», Николай Петрович Феофилактов; сонливец, добряк и простяк, — постоянно искавшая и зубочисткой в зубах ковырявшая наша «весовская» цаца, рисующая одним росчерком то — козью ножку, то — башмачок; и его загогулины — «феофилулинами» кто-то раз обозвал; Поляков его выдвинул; точно поплевывал фразочками:
— «Черт… — и горький вздошек из разинутой пасти, — по-моему, весь человек есть материя!» — пасть закрывалась; клюющий нос — всхрапывал; глаза закрыты — всегда.
Ласково всех с перетиром пенсне обходил, пожимая руками обеими руки мужчин, прижимая к крахмальному сердцу их, голубоглазый блондин, — улыбающийся до ушей Середин; как к мощам, припадал к дамским пальчикам; ход по рукам — крестный ход: с перезвонами! Он длился весь вечер; кончалось уже заседание, а Середин, точно загнанный конь, отирая испарину, гнался в передней за шубами с шапкой в руке: руку жать. Он однажды вошел с разобиженным, детским лицом, сжавши губки подушечкой; и — отошел в уголочек; и тер там пенсне… — «Вы расстроены?» — Он же оком — обиженным, круглым, оленьим — метнулся: «А я — без жены!» — прокричал фистулою; и я испугался; как будто он жаловался: «Я — без носа остался!»
Зато Гречанинов — женился; так стала мадам Середина — мадам Гречанинова; и Гречаниновы стали являться; она — точно помесь гречанки со старою ящерицей; носик — клювиком; сухенькая; глазки — точно агатики или — жестокие кончики игл дикобраза; не то в черном фоне — камея желтявая; не то — «фейль морт» 126; сердце — тоже: «фейль морт»; очевидно, ее первый муж,
Середин, прибегал от нее: отмерзать; оттого он кидался: хватать и жать руки. Второй муж ее, Гречанинов, был маленький; и — во всех смыслах; стиль музыки — помесь «рюссизма» с гнильцом модернистическим; был сладко-кисл, робко-дерзок; капризно заискивал он, все присаживаясь к крупным силам; сев к Брюсову, — он модулировал, скажем, в дэс-молль; но вот — Энгель входил, мрачно-прямолинейный; глядишь — Гречанинов, став честным це-дур, — перестал модулировать: «Конь… в поле пал» 127, — напевает он носиком цвета вишневого.
Лучше развалистый, вечно чудивший Желяев, садившийся — битое стекло в ухо нам сыпать; и скрябинское «Vers la flamme» 128 — оглашало «Эстетику».
Вовсе свой — Марк Наумович Мейчик, в любую минуту готовый присесть, заиграть, как и культурный и мило-любезный Игумнов.
Корещенко с Кочетовым, этим старым коням, как зениту надир, — соответствовала пара едких, сухих теоретиков музыки, дерзких насквозь: Н. Я. Брюсова и с иронической задержью молча сидевший Яворский. Как ящерка верткая, словоохотливая сестрица поэта, с малюсеньким носиком, с лбиною, напоминающей мне крепостной бастион, предлагала — научно: не переладить ли все лады — в нелады? Не построить ли нам неуряд — в звукоряде? А может, — ушами китайцев нам слушать созвучия? (А — почему не слоновьими? Большие уши!) Блестящая головология! Брюсова, скалясь на «Wohltemperiertes Klavier» 129, писала статьи, волновавшие Метнеров. Молчаливый Яворский, повязанный шарфиком, не реагировал, склабясь: вот чем, — неизвестно; умом перерос даже Брюсову он, что-то медля творить из не-музыки — музыку; его учебник 130 читал еще в верстке с почтением; безвдохновительна была все ж молчаливая эта «адамова голова»; и живей была Брюсова; годы носила в кармане она «целотонную» гамму 131, чтоб, вынув ее, как завернутый клубиком метр, измерять сантиметрами — Баха, Бетховена, следуя принципам братца: — «Измерить и взвесить!»
Мой друг, Э. К. Метнер, от этого — может быть, и заболел странной формы болезнью: недомоганием ушных лабиринтов, сопровождаемым рвотой и обмороками; от целотонных гармоний он корчился; но к проповеднице их относился с сухим уваженьем:
— «Вот умница! Но — голова — не своя: костяная, привинченная».
Да — вот: что у кого; у Яги — костяная стопа, а у Брюсовой глаза — агаты блистающие; но зато — головной аппаратик работал без промахов: «тйки-так, тйки-так» — громко, отчетливо; ну, а: где мелос? Он — выкладка цифр, наименьшее кратное…
Успокаивал Борис Борисович Красин, большой, добрый, нежный: — с подревом мелодий мне в ухо; ревел, — и показывал пальцем на «рарарара», выползающее, точно уж, из ревевшего рта: целина — непочатая эта меня освежала; он, видя меня удрученным, брал под руку:
— «Едем, Борис Николаич, — в Монголию: степь-то какая; послушаем бубен шамана!»
Какой-то из братьев его жил в Монголии; Красин, туда исчезая, являлся цветущим, басистым, коричневым:
— «Ах, как шаман в бубен бил!»
Раз воспел он Монголию, — так, что едва я туда не уехал; побег был задуман давно; но бежал — не с Б. Б., а с Тургеневой, Асей: на запад. Б. Б. добродушно подмигивал «переворотом»; он многое знал, вероятно, от брата Л. Б., роль которого нам неизвестна была.