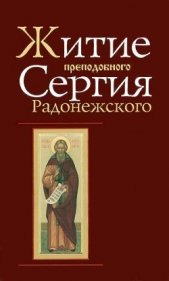Жизнь и судьба: Воспоминания

Жизнь и судьба: Воспоминания читать книгу онлайн
Вниманию читателей предлагаются воспоминания Азы Алибековны Тахо-Годи, человека необычной судьбы, известного ученого и педагога, филолога-классика, ученицы, спутницы жизни и хранительницы наследия выдающегося русского философа Алексея Федоровича Лосева. На страницах книги автор вспоминает о трагических поворотах своей жизни, о причудливых изгибах судьбы, приведших ее в дом к Алексею Федоровичу и Валентине Михайловне Лосевым, о встречах со многими замечательными людьми — собеседниками и единомышленниками Алексея Федоровича, видными учеными и мыслителями, в разное время прошедшими «Арбатскую академию» Лосева.
Автор искренне благодарит за неоценимую помощь при пересъемке редких документов и фотографий из старинных альбомов В. Л. ТРОИЦКОГО и Е. Б. ВИНОГРАДОВУ (Библиотека «Дом А. Ф. Лосева»)
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Подушку бросаю (дальше расскажу, как я ее заработаю, да, именно заработаю, но нескоро), беру крохотную «думочку» на пуху — не весит. Одеяло у меня байковое. Ватного вообще нет, шерстяного тоже — это вам не родительский дом с папой и мамой. Одеяло ремнями приторачиваю к чемодану. В нем все мое имущество — остатки детских летних платьев (тонка и могу носить долго), шерстяное, сшитое еще в мастерской ЦК, туфли мамины черного лака, кофточки вязаные — подарки мамы, дагестанские переметные сумы — хурджины (они до сих пор у меня — вышиты пестрой нитью), а в них самое дорогое — документы, в том числе брачное свидетельство родителей, и фотографии из родительского альбома, обнаруженные на полу комнаты Мурата среди хаоса (читайте выше). Главное — французская Библия на тончайшей рисовой бумаге, мелкий шрифт, лютерово Евангелие — вот и все мое достояние. Пальто английское белое в клеточку продала в скупку (см. выше), так что оно не обременяет. Перед отъездом в Мосторге на Петровке (бывший Мюр и Мерилиз) купила, наконец, настоящие кожаные туфли коричневые на среднем каблуке, устойчивые, удобные, за 250 рублей — тогда это обычная цена. Есть еще давний спортивный костюм — брюки и куртка, на лыжах не ходила, а на коньках в нем бегала. Костюм на себя. В брюках удобно. Как потом заметила, из нашей группы я одна в брюках, но после войны никогда не носила сей модный предмет дамского современного туалета, хотя ночные пижамы люблю и ношу с детства. Но это еще не вся экипировка.
А продукты? Трудно представить, как знатно позаботился институт о своих студентах. Каждому выдано 16 килограммов, то есть пуд, и распоряжайся, как хочешь. Продукты везем на себе, на спине, а чемоданы на склад. Потом их на грузовике привезут к нам в назначенное место в назначенный срок. На каждом — официальная бирка с фамилией и номером. Верим, сдаем, и не ошиблись. Рюкзака, конечно, у меня нет, да и откуда его взять? Зато есть лагерная марля — это опять мамин дар (марля в лагере заменяла многое). Шью (иголки, нитки и всякая мелочь при мне, захватила, уезжая из Владикавказа, хотя оставила там свои заветные три тетради — красную совсем детскую, голубую с краткими записями по-русски, бежевую с французскими стихами и альбомчик с рисунками Гуниба). Сшила вместительный мешок из двойной желтоватой марли, прикрепила самодельные ремешки, и рюкзак (а это и есть «заплечный мешок») готов. Осталось его наполнить очень вкусными запасами для арктических экспедиций со складов Севморпути: они питательные и самые настоящие продукты в виде брикетов. Тут гороховый суп, гречневая и пшенная каши, опять же клюквенный кисель в кубиках, хлеб в виде сухарных ломтиков и великолепное розово-белое сало, в дальнейшем мной очень даже оцененное, а в первый момент — отвергаю: фу, сало, есть не буду. Уж не помню, что еще там было. Да, сахар. Как же без него? Вот вам и целый пуд. Мешок за спину, вроде ничего, вынесу. И — в дорогу.
Дорога продумана не простая. Сначала обычная электричка — едем весело, перемена мест полезна, а для меня особенно. Я с детства страдала морской болезнью: ни поезд, ни извозчика, ни трамвай не выносила, чем раздражала родителей. А тут вдруг сама себе удивилась — еду в электричке, и хоть бы что — вот что значит война, все сразу перевернула, не только духовно, но и физически, даже физиологически. После такого полезного шока я не боялась никаких поездов, автобусов, грузовиков открытых и самолетов, больших и маленьких. И по шатким мостикам над бурной рекой перебегала, не глядя вниз, и по винтовой лестнице на вышку минарета, все — ничего.
Наша дорога на восток шла через городок Егорьевск к Шатуре, где находится старая известная Шатурская электростанция. И, конечно, опять непременная школа, где мы попросту на полу ночуем, и ожидание поезда: стоим под моросящим дождем. Кто поет «Синий платочек», а неподалеку от меня юная супружеская пара в два тихих голоса исполняет трогательную песенку: «Я маленькая балерина / Всегда мила, / И больше скажет пантомима, / Чем я сама…» [171] Ребята сказали — Вертинский, а он личность запретная, злостный эмигрант. Придет время, и будут принимать его с триумфом и в СССР, и в нашем институте через несколько лет после войны.
Нас погрузили на открытые платформы. Сидим на огромных кругах мексиканского свинца (военная помощь союзников), а на соседних платформах орудия под брезентом. Некуда спрятаться от ветра, мерзко, холодно, но никто не простудился — привыкли. Едем на восток и не один день — целую неделю. Если очень приспичит, то в чистое поле (поезд больше стоит, чем едет): мальчишки в одну сторону, девчонки — в другую. Как нарочно — ни кустика, но никто не стесняется, время военное, привыкли.
Прибыли, наконец, в старинный город Муром, что стоит на Оке, а рядом село Карачарово, где на печи сидел тридцать лет и три года славный богатырь Илья Муромец [172].
Как приехали, повели нас по заранее подготовленным улицам к хозяевам (им платил институт), кто кого примет на житье-бытье, кому что выгодно. Одним — ребята (помогут по хозяйству), другим девчата (меньше с ними забот). Нас, четверых, приняла пожилая тетка, довольно сварливая, как потом выяснилось. Прибыл и грузовик с нашими вещами, наконец и мое байковое одеяло. Спим на полу на каких-то непонятных подстилках — половиках: твердо, но привыкли. Едим очень экономно, боимся трогать свои запасы, они нам должны пригодиться позже, поэтому время от времени бегаем на жалкий рыночек, в основном за картошкой, варим и уплетаем с салом. Хлеб выдает наше начальство. Это молодые преподаватели и аспиранты, живущие на нашей же улице и облеченные полномочиями. Они общаются с Москвой, знают все новости и держат нас в курсе событий.
Сразу же ведут всех в баню, вот то-то мы рады — давно не мылись, а потом по всей дороге самое приятно воспоминание — бани. В баню надо идти по мосту, через гигантский овраг — он, как говорят, и поныне там. В бане очереди за маленькими кусочками черного мыла, шум, гам, толпы студентов из разных вузов, встречаются знакомые, даже школьные [173]. Сейчас я бы сравнила прибытие нас, грязных, превратившихся потом в чистых, с описанием в X книге «Государства» Платона встречи душ в загробном мире — радостно приветствуют они знакомых, но одних, так сказать, грешников, ведут на неотвратимый суд, а другие, уже очищенные, — счастливы.
Достопримечательность в городе одна — краеведческий музей. Там в дубовых колодах покоятся экспонаты — мощи княжеские: супруги Петр и Феврония. Имена нам по легендам знакомые [174]. Хорошо, что хоть в музей попали и там сохранились. Теперь, как рассказывают, почивают они в храме.
На берегу Оки монастырь старинный, конечно, давно закрыт. Смотрю на него и, как всегда, рифмоплетствую: плиты черного мрамора, снег на почернелых крестах и на зубцах мрачных стен. А наверное, плиты давно разбили, кресты сбросили, зубцов вообще не было. Гуляю под стенами монастыря, по берегу замерзшей Оки — зима в ноябре. И снова рифмы глупые — все никак не уймусь. Теперь уже воспеваю скрытую гладь реки и холодный блеск зеленых глыб льда (откуда эти глыбы увидела, не знаю). Но финал-то какой, вполне романтический: «И сумрак скрытых тайн подводных / Зовет меня в небытие». Очень характерно.
В Муроме тоска, живем целый месяц, живем слухами, книг никаких, одни разговоры, да время от времени пробираемся на вокзал, чтобы дорогу найти покороче, поудобней, ведь придется тащиться с вещами. На душе смутно.
Вспомнилось одно — и очень важное — событие еще в Москве, летом, в июле. Слышим неожиданно (вот благодетельная радиоточка) знакомый голос (акцент грузинский) и вместе с тем непривычный, как будто неуверенный, просящий, а не приказывающий: «Братья и сестры…» (Господи, до чего дожили!) Каждый шорох слышен — зубы стучат о стакан, вода булькает — пьет, волнуется. Чудеса да и только. Значит, дела плохи. Нашему муромскому сидению приходит конец. Срочно выезжаем на восток, на Алтай. Для нас это все равно, что на край света.