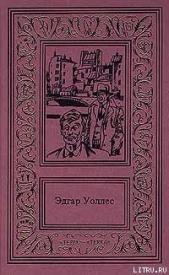Речи палача
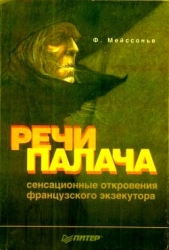
Речи палача читать книгу онлайн
«Речи палача» представляют собой уникальный в своем роде документ — на сегодняшний день это единственное свидетельство, опубликованное французским экзекутором прижизненно. Читатель найдет в конце произведения послесловие, в котором рассказано об истории происхождения этой книги, описаны различные этапы ее создания, а также размышления Жан-Мишеля Бессета, вызванные долгим сотрудничеством с Фернаном Мейссонье.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Это, в собственном смысле слова, значит создать авторское произведение, то есть расширить речь.
Войдя в пору зрелости как ученый, я пришел к мысли, что в области антропологии грамотное описание стоит анализа. Трудности, как говорит нам Витгенштейн, возникают из-за того, что мы обычно ошибочно ожидаем объяснений, «в то время как хорошо проведенное описание представляет собой решение, при условии, что мы позволим ему занять то место, которого оно заслуживает, что мы остановимся на нем, не пытаясь выйти за его границы. Поскольку самое сложное — это остановиться [80]». Действительно, человеку свойственно тянуть на себя духовное одеяло. Читаем мы только при помощи своей памяти, и в некоторой мере всякое чтение является спонтанным анализом. Заключенную в книге информацию каждый получит в меру своей собственной истории. И то, что тот или иной пассаж, возможно, будет кем-либо воспринят как непристойный, возвращает, согласно классическому закону о размышлении, [81] каждого к самому себе.
«История — это не наука, и она не должна многого ожидать от наук; она не объясняет, и у нее нет метода (…). Так чем же является история? Чем на самом деле занимаются историки, от Фукидида до Макса Вебера или Марка Блоха, когда отходят от своих документов и переходят к «синтезу»? (…) Ответ на этот вопрос не изменился за две тысячи сто лет, истекшие с тех пор, как его нашли последователи Аристотеля: историки рассказывают об истинных событиях, в которых действующим лицом является человек; история — это роман об правде [82]».
Именно в этом значении я старался написать роман о правде.
Описывать и понимать
Ничто, даже убежденность в том, что я был справедлив, не устраняет моих сомнений касательно того, может ли человек иметь право судить.
Я подчеркивал, что Фернан Мейссонье стал говорить со мной, потому что знал, что я его не сужу. Я никогда не рассматривал бывшего экзекутора как месторождение памяти, которое нужно использовать. [83] Отношения, складывавшиеся между мной и Фернаном Мейссонье, с течением времени установили между нами глубокое доверие. Периодическое общение, совместно пережитые моменты, доверительные беседы. совместные обеды, взаимные визиты, праздники, поддержка во время болезни — на протяжении всех сменявшихся этапов моего исследования я выработал установку свободного внимания, настоящего, понимающего. Моя работа заключалась в том, чтобы заставить работать самого Фернана Мейссонье, и сделать это словно без нажима, путем простого и свободного ожидания. На практике такая позиция изнурительна, как проведение опроса на языке, которым не владеешь. Она требует такой степени концентрации, которую трудно «поддерживать. Именно поэтому наши записанные беседы практически длились не более одного дня. В конце концов можно подумать, что эта работа (почти что акушерская!) — настоящая социологическая майевтика — привела Фернана Мейссонье к передаче своей правды, а может быть, и к освобождению от нее. [84] Таким образом я смог проверить, что автобиографическая работа — это не только способ выражения индивидуальности, которая ей «предсуществует», но также процесс, способствующий выявлению «субъекта [85]». Эволюция точки зрения Фернана Мейссонье относительно смертной казни показательна в этом отношении.
Биографический подход является диалектическим отношением. Желание заставить «работать» Фернана Мейссонье было для меня также поводом для работы над собой. Путем этого упражнения, состоящего в освобождении от защитных оков чистой совести (просто совести, и именно в этом отношении интеллектуальное ремесло гибельно), чтобы открыться без предупреждения познанию другого — в его «особости» — в какой-то мере ты «раздвигаешь» границы своего собственного мозга, чтобы открыться новым духовным пейзажам.
Это «стоит небольшой прогулки», как пишут в путеводителях: прогулки по миру других открывают большие знания о себе самом.
Бессознательное — это наша скрытая история. В некотором роде эту работу можно было бы воспринимать как дар — яд — сообществу. В течение двух веков Франция жила в тени гильотины. И пятьдесят лет пришлось ждать, чтобы «события» стали войной в Алжире. Если поставить «Речи палача» в эту перспективу, их можно прочесть как возврат одного из фрагментов нашей коллективной истории. Французы, долгое время в большинстве своем бывшие сторонниками смертной казни, получили возможность взглянуть в лицо реальности. Такой является в чистом виде история смертной казни на гильотине. Написав исторический труд, мы прекращаем рассказывать байки.
«Социология не имеет целью уколоть другого, объективировать его, обвинить, потому что он, например, «сын того или другого».
Напротив, она позволяет понимать мир, вернуть ему смысл (…), сделать его «данным», но это не означает, что его нужно любить или сохранять как таковой. Понять поведение автора в рамках поля, понять необходимость, вынуждающую его действовать так, — значит сделать необходимым то, что сперва кажется случайным. Это не способ оправдания мира, а способ научиться принимать тысячи вещей, которые иначе будут казаться неприемлемыми». [86]
Так же как афинский pharmakos был призван выполнять роль козла отпущения (термин pharmakos обозначал одновременно и яд, и его антидот), экзекутор, на которого взваливается весь груз насилия, производимого обществом (которое представлено как легитимное), получает ритуальную и регулирующую функцию. В этом смысле свидетельство Фернана Мейссонье напоминает о том театре жестокости, который вызывал к жизни Антонен Арто. [87] Он выводит на поверхность «глубинную латентную жестокость, через которую в индивиде или народе находят место все извращенные возможности духа». [88]
Экзекутор, парадоксальный человек [89]
Чтобы убивать, существует палач. Кто убивает вместо палача, тот вырезает из дерева вместо плотника. Изображать из себя господина вместо господина, вырезать из дерева вместо плотника, Редко кто не ранит на этом руки.
В некотором отношении экзекутор представляется инвертированным образом преступника. Закон — это то, что их одновременно объединяет и разделяет. Они оба убивают, каждый со своей стороны зеркала закона. Экзекутор, в котором пребывает закон, представляется позитивным, легальным убийцей. Народный мститель, вооруженная рука правосудия, меч закона… — он уполномочен обществом на то, чтобы, согласно деликатному популярному выражению, «отрубать гнилые или пораженные гангреной ветви социального тела». Находясь на другом конце власти, обладая высшей властью — властью убивать себе подобных, — палач также встает в пару с королем. Будучи персонажем вне норм, он также является объектом фантазма. И, как отметил Роже Кайюа, [90] существующие рассказы о палачах почти всегда восходят к области утопии, отражая представления, которые питают коллективную мифологию. Здесь мы увидели экзекутора вне этой мифологии, в его повседневной жизни. Обычный человек в необычном положении. В итоге: «Целый человек, созданный из всех людей, который стоит их всех и которого стоит любой». [91]