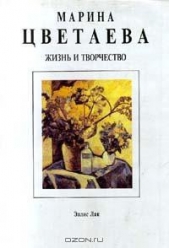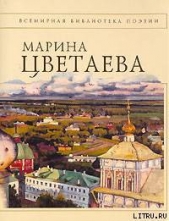О Марине Цветаевой. Воспоминания дочери

О Марине Цветаевой. Воспоминания дочери читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Недели на две я еще могу, кажется, рассчитывать на гостеприимство своих «хозяев» — им очень, очень не хочется отпускать меня — относятся ко мне очень хорошо и пока затягивают всю эту историю — но слишком долго затягивать, увы, не придется. А все-то дело в том, что за меня «заступиться некому», я ведь здесь так недавно. Все можно было бы уладить. Работать напоследок приходится очень много и очень беспрерывно. Я ужасно устала и вообще, и в частности.
Асеев иногда пишет мне письма красивые и гладкие. Что-то в его письмах есть поверхностное, что заставляет подразумевать в нем самом нечто затаенное — не знаю, как выразить, — в общем, все его легкие похвалы моему уму и трескучие фразы о маме не внушают того простого человеческого доверия, без которого не может быть отношений, хотя бы приближающихся к настоящим. Он собирается приехать сюда «посмотреть на меня». Вряд ли он получит удовольствие от этих смотрин. Но ты ему не говори! А чего — «не говори» — сама не знаю. Очень спать хочется.
Я сама не знаю, что и как со мной будет дальше. Ехать? Куда? мне не ездить хочется, а прибиться к месту, и чтобы никто не трогал. Я, конечно, могла бы в Вологду к Асе, [95] но она — мучительна своим сходством с мамой, карикатурным каким-то, и своей болезненной разговорчивостью, и многим, многим другим. Не прими за эгоизм — но быть с ней — это ежечасный, ежеминутный подвиг, на который я сейчас, боюсь, не способна. Я ведь сама ужасно издергана, только это, слава Богу, внешне не проявляется. А Ася вся — нервами наружу, и это меня заставляет щетиниться, почему — не знаю. Боюсь, что я ужасно косноязычна, поймешь ли ты все, что мне не удается выразить? А как жизнь быстро идет! Так недавно мама распечатывала твои «Поверх барьеров» и «Сестра моя жизнь», и Рильке умер так недавно, и тоже совсем недавно я, маленькая, расшифровывала маленькую Люверс, [96] сама будучи похлеще этой самой маленькой Люверс, и Мур играл с белым медвежонком Мумсом, присланным твоим папой.
В маленьком холодном Рязанском музее есть работы твоего отца, и по радио передают Скрябина «…уйти от шагов моего божества», [97] и с Люверс я встретилась в Мордовии, в старом за- и растрепанном альманахе, за высоким забором, в лесах, где проживал Серафим Саровский… И в общем мы с тобой живы и время от времени попадаем в круги, разбегающиеся от когда-то давно брошенного камня, встречаемся с чем-то и кем-то еще давно близким и опять ждущим на очередном повороте судьбы. Грани между «просто» и «давно» прошедшим стерлись, как стерся счет дням и годам. Меня маленькую тревожило чувство, что времени — нет: до полуночи — вечер, а с полуночи — утро, а где же ночь? А сейчас — до полудня — детство, а с полудня — старость. Где же жизнь? Ты что-н<и>б<удь> поймешь в моем сонном лепете? Хотя бы то, что я тебя очень люблю и крепко целую?
Твоя Аля.
<ПАСТЕРНАКУ>; 5 сентября 1948
Дорогой Борис! Прости за глупый каламбур, но — все твои переводы хороши, а последний — лучше всех. Не знаю, правильно ли я поступила, тут же, «тем же шагом», как говорят французы, сбегав в магазин и купив себе пальто. Правильно или нет, но это было какое-то непреодолимое душевное движение, и даже сильней, чем движение. Потом, когда я его уже купила и надела, я стала себя убеждать, что так и нужно было сделать: пальто ведь нет, совсем никакого, и подарить его мне может только чудо, а чудо — вот оно, и значит — все правильно. Потом представила себе, как такая куча денег расходится по всяким там керосинам и селедкам, не то, что «расходится», а «разошлась бы», если бы я не купила пальто. А потом с совершенно чистой совестью и легким сердцем пошла отражаться во всех витринах. Спасибо тебе, Борис. Ты как-то совсем по-необычному тронул меня и обрадовал своим подарком — но все — это не те слова, и нет у меня на это слов. Однажды было так — осенним, беспросветно-противным днем мы шли тайгой, по болотам, тяжело прыгали усталыми ногами с кочки на кочку, тащили опостылевший, но необходимый скарб, и казалось, никогда в жизни не было ничего, кроме тайги и дождя, дождя и тайги. Ни одной горизонтальной линии, все по вертикали — и стволы и струи, ни неба, ни земли: небо — вода, земля — вода. Я не помню того, кто шел со мною рядом, — мы не присматривались друг к другу, мы, вероятно, казались совсем одинаковыми, все. На привале он достал из-за пазухи обернутую в грязную тряпицу горбушку хлеба, — ты ведь был в эвакуации и знаешь, что такое Хлеб! разломил ее пополам и стал есть, собирая крошки с колен, каждую крошку, потом напился водицы из-под коряги, уже спрятав горбушку опять за пазуху. Потом опять сел рядом со мной, большой, грязный, мокрый, чужой, чуждый, равнодушный, глянул — молча полез за пазуху, достал хлеб, бережно развернул тряпочку и, сказав: «на, сестра!», подал мне свою горбушку, а крошки с тряпки все до единой поклевал пальцами и в рот — сам был голоден. Вот и тогда, Борис, я тоже слов не нашла, кроме одного «спасибо», но и тогда мне сразу стало ясно, что в жизни есть, было и будет все, все — не только дождь и тайга. И что есть, было и будет небо над головой и земля под ногами. Только тот был чужой и далекий, а ты — родной и близкий, но и ты, и он сделали — сотворили — для меня большее чудо, чем опять-таки можно выразить словами. — Да, вспомнишь это самое время военное, и это самое горе военное, и подумаешь — ведь в самом деле все это было и в самом деле все это перенесли.
У меня пока нового — кроме пальто — нет ничего. Распоряжение остается в силе, что касается меня, то я пока работаю на прежнем месте, что и как будет дальше, — не знаю. Если отсюда придется, и возможно в недалеком будущем, — уйти, то думаю поехать к Асе, там, м. б., и даже наверное, Андрей [98] поможет с работой, и остановиться можно будет у них. Здесь же у меня никого и ничего, и все может оказаться невыносимо трудным. Но и там, Борис, не слаще, в конце концов. Очень, очень трудно с Асей быть больше двух часов подряд. И кроме того это — мама в кривом зеркале, это почти мама и совсем не она, жутко, не по моим силам. Сил у меня совсем немного и корни мои с трудом достают до подземных источников, Борис. Да, ты Асе не говори о том, что послал мне, а то она меня пилить будет, что я не поехала в Елабугу. Но я-то знаю, что живая мама сама предпочла бы, чтобы я оделась, а мертвой мамы — нет.
Крепко тебя, дорогой, целую. Как бы тебя увидеть? Прозу свою пришли. Пиши мне пока на училище, если переменю адрес — сообщу.
Твоя Аля.
<ПАСТЕРНАКУ>; 20 сентября 1948
Дорогой Борис! Сегодня, очень рано утром, я услышала, как журавли улетают. Я подошла к окну и увидела, как они летят в смутном, рассветном небе, и потом уже не могла уснуть — все думала. Почему написала тебе об этих журавлях и сама не знаю. Развернула твое письмо — и они мне вспомнились. Наверное, есть какое-то скрытое, а может быть и явное, сходство между твоим почерком и полетом этих больших, сильных птиц, вечно разорванных между севером и югом, зимой и летом, птиц без средней полосы и золотой середины в жизни.
Как люблю я их крик в тумане сумерек или рассвета, и стройно-колеблющийся силуэт их эскадрильи, и того, последнего, мощными, на расстоянии бесшумными, взмахами крыльев догоняющего своих…
«Всё дурное уже переделано», — пишешь ты. Не знаю. Сомневаюсь. Во-первых, одной человеческой жизни, даже семижильной, явно мало для того, чтобы переделать «все» — (хорошее или дурное). Во-вторых — во-вторых, я настолько одичала, что необычайно трудно мне излагать свои мысли — они переродились в смутные ощущения, понятные лишь мне одной, моему единственному собеседнику. Они теснятся в голове, пока не пожирают друг друга, и тогда «голове становится легче дышать». Просто мне хотелось сказать тебе, что ты, первый из известных мне поэтов, сделавший тайное — явным, выразивший то невыразимое, до чего некоторые твои предшественники — скажем Тютчев, Фет, добирались иногда случайно. И эти их случайности являлись — на мой взгляд и мое чутье — лучшим в их лирике. Но я — плохой судья в этих вопросах, т. к. слух мой настолько развит — а для объективного отношения к делу это — еще хуже глухоты! — что даже самого трудного тебя понимаю я с полслова. Не только теперь, а еще и тогда, когда была совсем девчонкой, т. е. когда это самое чутье прекрасно сосуществовало с любовью к кино, чтеньем иллюстрированных журналов и уютных романов Марлит, [99] с тем, что давно и легко отпало, как отслужившая шкурка змеи.