В наших переулках
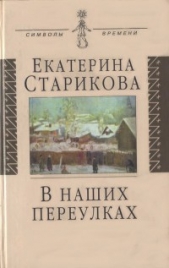
В наших переулках читать книгу онлайн
Книга профессионального литератора Е. В. Стариковой представляет собой воспоминания московской интеллигентки о своих родителях и многочисленных родственниках, о детстве и юности, проведенных и в Москве, и в деревне — на родине ее отца, — и за городом, на природе; причем все подробности взаимоотношений людей и быта даны на историческом фоне, эпоха ощущается в каждом повороте событий, в каждом слове повествования.Наибольшую ценность этим воспоминаниям придает несомненный писательский дар Стариковой. Читатель получает прекрасный образец настоящей русской прозы; книга — от первой до последней страницы — читается буквально на одном дыхании.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
8
Почему мне вспомнилась идиллическая керосиновая очередь, а не страшная для взрослых и наполнявшая непонятным ужасом меня «паспортизация»? Ведь кажется, она проходила тогда же? Или весной следующего, тридцать четвертого года? Повальный психоз страха охватил нашу квартиру задолго до выдачи паспортов. Все боялись, потому что никто не знал, чего именно надо бояться. Мама боялась своего дворянского происхождения, наша соседка Настасия Григорьевна — купеческого, «пролетарии» Грязновы (именно так их у нас и называли), постоянно и громко кичившиеся рабочим превосходством над «паразитами», опасались своего давнего разрыва с деревней. Не боялись только гепеушники Папивины (а, впрочем, кто их знает? Может, они боялись больше остальных? Но они-то умели не болтать). А когда наступил момент выдачи паспортов, неприятности оказались у нашего папы и у Сергея Владимировича Еремеева. У папы снова всплыло его партийное прошлое, прерванное им в Сибири в 18-м году. У Сергея Владимировича — его подрядно-строительная деятельность во время нэпа. Мрак грозящего бесправия длился несколько дней. Как все утряслось, не знаю. В конце концов паспорта были получены всеми, квартира ликовала. Я помню свое разочарование при виде вожделенных книжечек в руках у родителей. Из-за них, таких неинтересных, все эти волнения? Странно. Недаром педологи считали меня недоразвитой. Я не понимала ни прогрессивности создания колхозов, ни значения паспортизации. Подступило что-то унизительно-угрожающее и как-то минуло.
Забавно то, что в паспортах у наших родителей, были проставлены в качестве места их рождения названия сел в Смоленской и Владимирской губерниях. У мамы — Пеньково, у папы — Нижний Ландех. А то, что мама родилась в наследственном доме помещиков Краевских, а папа — в крестьянской избе, это обстоятельство ускользнуло от паспортизации. Устрашающая сеть советской унификации захватывала улов широко, но бестолково. Впрочем, всеобщий страх был важнее конкретного улова.
Вдруг сейчас подумалось: и папа, и Сергей Владимирович умерли от рака. Кто знает, когда в их телах переродились клетки, предопределившие обоим страшные смертные муки? Может быть, еще во время паспортизации? Впрочем, таких времен у этого поколения было достаточно. Вся их жизнь разместилась в этом времени.
Эпопея паспортизации своим настроением общей опасности слилась в моей памяти с атмосферой во времени обнаруженного бешенства у собаки Истоминых Джери. Тогда все жители квартиры должны были через день ездить в институт Пастера, чтобы делать прививки. Там все казалось мне страшным и унизительным: и разговоры о бешенстве, и картинки на стенах на ту же тему, а главное, стояние в длинной очереди с обнаженным животом, по которому одна сестра проводила помазком с йодом, другая, не глядя на тебя, вонзала в очередной живот иглу, а третья так же механически снова мазала живот йодом. Было и больно, и оскорбительно. Неужели тогда так распространилось бешенство?
В то же примерно время сломали заборы московских дворов. Следуя, вероятно, принципу коллективизма и равенства? Сначала и мы, жители Малого Каковинского переулка, радовались свободному доступу в сад под нашими окнами. До того вход в него был с Дурновского переулка и приходить туда можно было только к кому-нибудь в гости. Мы ходили к Истоминым. А тут вдруг рухнули все преграды, и, спустившись по черной лестнице прямо в узкую щель нашего двора, мы оказывались в саду. Но радость наша была недолгой. Открыв сад со всех сторон, сделав проходным, его обрекли на гибель. За один летний сезон были вытоптаны не только цветы, но и густые заросли глухой крапивы, лопухов, послена и всей той буйной зеленой массы, что грудилась на жирной земле вдоль высокого забора, представляя для городских детей заманчивые дебри. Теперь по выбитой земле носились толпы босых голодных мальчишек из всех дворов обширного квартала, образованного переулками Дурновским, Трубниковским, Рещиковым и нашим. Эти банды отчаянных маленьких хулиганов, крушащих остатки старого арбатского уюта, хорошо были видны из окон нашей комнаты: вооруженные рогатками мальчишки распространялись по всему вытоптанному пространству, как саранча. Говорили, что из рогаток они убивают голубей, а матери варят из них вкусный суп. Правда то была или нет, но голубей в Москве почти не осталось.
Заборы в Москве, кажется, восстановили через год или два, деревья в саду почти все сохранились (фруктовые вымерзнут в лютую зиму финской войны), но цветов и травы в этом саду уже никогда больше не будет, он останется вытоптанным вплоть до полного исчезновения и последующей застройки его бывшего пространства. В память о «нашем саде», гордости и красоте нашего дома, в изголовье моей кровати висит старая репродукция Поленовского «Московского дворика», доставшаяся мне после смерти тети Тюни. На картине Поленова изображено не совсем то место, которое видно было из наших окон, но близкое от него. Спасопесковской церкви мы не могли видеть, но по дыму из труб «дома Карахана», как тогда еще говорили, я определяла перед выходом в школу, какая погода: на розовом или желтом фоне утренней зари был виден прямой (безветрие) или пологий (ветер) столб дыма, а на пасмурном небе ненастья его не было видно. В войну мы завистливо смотрели на этот дым: в доме Карахана, где давно разместился американский посол, было чем топить. Там, наверное, было тепло.
9
В те же годы мы, дети Стариковы, стали законными и постоянными обитателями нашего двора. Нас перестали водить гулять, «водить» стало некому, и мы могли вольно определять место своих прогулок. И оказалось, что узенькая щель между домами № 2,4 и 6 по Малому Каковинскому переулку и «нашим садом», несмотря на мизерность сжатого пространства, место очень и очень привлекательное. Там между кучей угля слева и тянувшимися справа конюшней, сараем и помойкой на черной вытоптанной земле, среди натянутых бельевых веревок, среди пыли выбиваемых ковров, половиков и шуб — то есть в присутствии всех обычных атрибутов московского двора тех времен — кипела во всем своем социальном и возрастном многообразии жизнь. Уже одно то, что примерно до середины 30-х годов в конюшне стояла «своя» лошадь, которой, правда, единолично распоряжался наш степенный дворник, татарин Измаил, — одно это вдыхало живую жизнь в пространство, лишенное единой травинки, но осененное громадным тополем, тянувшим старые корявые ветви из соседнего сада прямо к нашим окнам.
Со двора можно было видеть, как весной на подоконнике второго этажа соседнего дома возлежала, опираясь пышными локтями на подушку, рыжеволосая дама с пленительной ярко накрашенной улыбкой, обращенной ко всем зрителям, — певица, колоратурное сопрано, чьи вокализы оглашали и двор, и переулок. С первого этажа нашего дома неслись звуки бесконечных гамм, разыгрываемых на рояле строгой девушкой, живущей своей, таинственной для нас жизнью, никогда не сливающейся с жизнью двора. В другом окне первого этажа за кущей горшочных цветов видна была художница за мольбертом. На пожарной лестнице дома № 4, уходившей в опасную высь, висели в живописных позах знаменитые хулиганы нашего двора, поражая воображение не только девочек, но и мальчишек. Не задерживаясь, независимо и гордо проходили по двору круглолицые красавицы-студентки, дочери нашего дворника Измаила.
Подвалы на наших глазах стремительно заселялись, набиваясь до отказа выходцами и беглецами из деревень. Они приносили в московский быт свои обычаи и привычки. На утоптанной и без них земле двора они в выходные дни и праздники устраивали танцы под гармошку, пристукивая ногами и кружась совсем по-волковски. Звуки гармони и пьяное пение доносились часто и из окон подвалов, где до того только хранились дрова.
Я влюбилась в одного рыжего и ражего парня из подвала: меня пленило его розовое блестящее вискозное кашне, которое он носил под пиджаком. Ни слова «вискоза», ни такого обычая, ни такой смелости красок в мужском наряде я еще не слышала и не видела. И не устояла. Парню было лет двадцать, я никогда не обменялась с ним ни словом, и моя страсть осталась для него, как и для всех прочих, тайной.
























