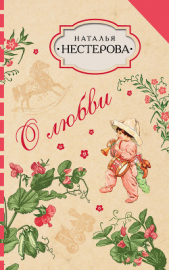О пережитом. 1862-1917 гг. Воспоминания
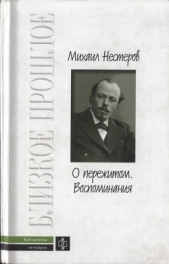
О пережитом. 1862-1917 гг. Воспоминания читать книгу онлайн
Мемуары одного из крупнейших русских живописцев конца XIX — первой половины XX века М. В. Нестерова живо и остро повествуют о событиях художественной, культурной и общественно-политической жизни России на переломе веков, рассказывают о предках и родственниках художника. В книгу впервые включены воспоминания о росписи и освящении Владимирского собора в Киеве и храма Покрова Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве. Исторически интересны впечатления автора от встреч с императором Николаем Александровичем и его окружением, от общения с великой княгиней Елизаветой Федоровной в период создания ею обители. В книге помещены ранее не публиковавшиеся материалы и иллюстрации из семейных архивов Н. М. Нестеровой — дочери художника и М. И. и Т. И. Титовых — его внучек.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Покинув Св. Софию, мы прошли в так называемую Малую Софию (Кучук Айя-София), иначе в древнюю церковь Сергия и Вакха. Тут остатки старых мраморов. Затем прошли в огромный храм (теперь мечеть) Двенадцати апостолов, где видели великолепные изразцы. Переправились через Золотой Рог (мы жили в Галате [200]).
На пароходе случайно познакомились с молодым болгарским Архимандритом, учившимся в России и свободно говорившим по-русски. Он охотно взялся показать нам наиболее ценное. Отпустив проводника, мы последовали за Архимандритом, очень приветливым и обязательным человеком, знавшим отлично Константинополь. Осмотрели с ним единственную совершенно уцелевшую церковь Успения Божьей Матери, где сохранился неприкосновенным купол и крест на нем. Прошли в мечеть Фехтие Джамис, где уцелели в притворе мозаические изображения Христа и двенадцати апостолов. Попутно осмотрели остатки дворца Велизария и, наконец, мечеть Кахрие Джамис — храм Федора Студита. Здесь в притворах сохранились мозаики из жизни Богоматери. Прошли в «патриаршую» церковь, где патриаршее место установлено по линии иконостаса, образуя его продолжение.
Константинополь тех дней был очень грязен — этим напомнил мне старый Неаполь с его Санта Лючия [201]. Сами турки мне очень понравились — и обликом своим, и чем-то патриархальным. Они нимало не походили на тех «башибузуков», оставшихся в моей памяти от времен русско-турецкой войны. Словом, как византийский Цареград, так и современный Константинополь, оставили во мне самое лучшее впечатление.
Болгарский архимандрит оказался образованным человеком, знакомым с Италией: он указал мне, где я мог бы увидеть древнейшие изображения Св. Кирилла и Мефодия, входящих в число образов, кои предстояло написать мне в Киевском соборе. Он сказал, что изображения этих святых есть на одной из только что открытых фресок в катакомбах Св. Климента. Пробыв несколько дней в Константинополе, я выехал в Афины.
Рано утром мы были в Пирее, а оттуда рукой подать до Афин. Еще дорогой я сговорился с одним греком, знающим по-русски, что он мне послужит день-другой гидом.
Остановился я в большой гостинице «Виктория» на площади Конституции и, переодевшись, не медля ни минуты, отправился с моим греком в консульство узнать адрес профессора Павловского [202].
По дороге осмотрели бегло Акрополь. Три тысячи лет пронеслись над ним. Тяжкая рука времени сделала свое дело, и все же то, что осталось, — прекрасно, величаво, просто. Из Акрополя заглянули в тысячелетнюю церковь Капни-Карея с сохранившимися мозаиками [203].
Павловского не застали; проехали за город в древнюю Дафни, там осмотрели реставрацию мозаик. Вернулись к Павловским, с которыми я уже не расставался за все дни пребывания в Афинах. Эта семья была центром, где сходились тогда русские ученые и люди, любящие Россию, думающие о ней. Много было здесь высказано тоски, страхов, восторгов и надежд на будущее нашей Родины. С Павловским я осмотрел подробно Акрополь и все, что осталось от античной и христианской Греции в Афинах.
Поразил меня Акропольский музей. Впервые я проникся до полного прозрения, до восхищения архаиками. От них, от архаик, на меня больше, чем от великого эллинского искусства, повеяло подлинным смыслом, религиозным восторгом античного мира. В них продолжало жить то, что заставляло трепетать, волноваться все существо древнего эллина, да и меня, современного варвара. В них была подлинная, непреодолимая магия духа Великой эпохи, Великого народа. Мне и тогда, помнится, снова показалась такой сладостной и, быть может, незаслуженной моя доля, я мог видеть, наслаждаться тем, что скрыто по тем или иным причинам от миллионов людей. Там я еще лишний раз был счастлив.
Однако время летело, и надо было решить, как ехать дальше. Ехать ли в Спарту, что заняло бы дней шесть-семь, или, пробыв еще дня два-три в Афинах, ехать на Патрас в Бриндизи… Время у меня было распределено скупо, пришлось остановиться на последнем.
Меня проводила русская колония, и вечером в Патрасе я был встречен, выходя с вокзала, русской речью. Некто, довольно кудрявый, с негреческим носом, предлагал мне по-русски свои услуги, а так как я за свое короткое пребывание в Греции, кроме «архимандритос», по-гречески ни одного слова не усвоил, то естественно, что предложение было принято.
Уроженец Гомеля скоро разменял мне греческие деньги на итальянские. Он проводил меня на плохонький пароходик, отходящий через два-три часа в Бриндизи.
Немузыкальная новая Греция сейчас здесь, у нашего пароходика, была полна музыкальных звуков. Как бы весь пароходик составлял какой-то плавучий оркестр: мандолина повара в белом колпаке и в менее белой куртке восхищенно пела, ей вторили другие мандолины, гитары. Словом, я сразу почувствовал себя в Италии, и это было так радостно. Скоро мы двинулись в путь. Он был сплошным наслаждением. На душе — рай. Пароходик наш танцевал под музыку.
Здесь я упомяну об одном досадном и комическом приключении, коих вообще со мной было немного, принимая во внимание мое полное незнание языков. Из Бриндизи я должен был ехать по железной дороге в Неаполь, а там снова пересесть на пароход и плыть в Сицилию-Палермо.
В последний момент на вокзале, сбитый с толку железнодорожным расписанием, я забрал себе в голову, что мне выгоднее и скорее ехать на Реджио Мессину. Как ни уговаривал меня кассир не делать этого, я все же настоял на своем, не поняв моего доброжелателя. И только в пути понял, что я попал на поезд не прямого сообщения — понял тогда, когда меня, беднягу, со всей деликатностью высадили на станции Метапонто, где я узнал, что мой поезд на Реджио пойдет с Метапонто ровно через 12 часов. Каков был удар! Просидеть на глухой, затерявшейся где-то в Калабрии маленькой станции двенадцать часов! Во мне тогда дружественная нам нация скоро приняла живое участие. Я сдал багаж на хранение и пошел бродить.
Пейзаж был унылый: степь, где-то на горизонте дерево, а у дерева какая-то ветхозаветная хибарка. Жара страшная. Итальяшки все попрятались от нее, и только я, как неприкаянный, брожу по этой жаре. Однако и она стала спадать. Завечерело. Стали приходить какие-то поезда. Железнодорожные служащие с их женами и курчавыми ребятишками повыползали на свет божий, поднялись зеленые жалюзи. Послышались звуки мандолины.
Я опять ожил, а там наступило время ехать дальше. Меня дружественно проводили мои метапонтцы, и я рано утром был в Реджио. Странствуя по белу свету, видишь не одни розы и олеандры, попадаются и такие цветы, как Метапонта.
Дорога до Реджио великолепна. Станционные домики утопают в цветах высоких олеандров, часто встречаются пальмы, цветущие кактусы, алоэ, а герань растет по сторонам рельс. Из Реджио два часа езды до Мессины, и я в Сицилии. Еду по железной дороге. По пути — горы, средневековые замки, сохранились следы античного мира — театр Таормино. Проехали Этну, Катанью. Дорога среди сжатых полей, холмов, частые туннели. Так до самого Чефалу. Снова стало видно море. Вечером я был в столице Сицилии — Палермо.
Однако вернусь ненадолго в Реджио. Чтобы попасть из Реджо в Мессину, надо сесть на маленький пароходик вроде петербургских, так называемых «финляндских», и через два часа мы на родине мандаринов и апельсинов — в Мессине.
Я сел на такой пароходик, полный шумных, экспансивных итальяшек обоего пола. Едут больше крестьяне. Женщины грызут огромные цитроны и говорят шумно, будто бранятся. Против меня сидит группа, с которой остальные пассажиры не сводят глаз. Эта группа — главный предмет горячих разговоров остальных.
Калабрия, как известно, была страна так называемых «калабрийских разбойников». Вот таких-то двух сейчас и везли куда-то вместе с нами. Один — старый, сморщенный, как гриб, только глаза еще блестят, как у молодого. Другой, напротив, полный сил, подавал иногда вызывающие реплики. Оба были закованы в ручные и ножные кандалы. Сопровождали их два красавца карабинера, хорошо вооруженные, в традиционных треуголках. Картина была в староитальянском духе, в духе папской Италии тридцатых — сороковых годов XIX столетия…