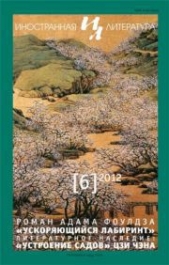Карлейль

Карлейль читать книгу онлайн
Книга Джулиана Саймонса, известного английского писателя, дает объективный портрет Томаса Карлейля, выдающегося мыслителя, историка, философа и публициста, под влиянием которого развивалась литература и философия всего XIX столетия.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Умер старик Стерлинг: за две недели до смерти, уже с парализованной речью, он велел привезти себя на Чейн Роу, хотя знал, что Джейн нет дома, и делал знаки, как бы желая сказать что-то, показывая на свои губы и на дом, и при этом по его лицу текли слезы. Его сын, Джон Стерлинг, друг Карлейля и Джейн, которому она доверяла свои секреты, умер за год до этого после продолжительной болезни; у жены его второго сына, Энтони, возникла маниакальная идея, что ее муж влюблен в Джейн и разоряет семью, покупая ей подарки. Большинство эмигрантов перестало ходить в этот дом, так как их отталкивала нетерпимость Карлейля и его раздражительность. Впрочем, он мало виделся с гостями, поскольку держался такого распорядка, при котором до трех часов дня проводил у себя наверху, после этого он до пяти гулял и ездил верхом, в пять он садился пить чай, а после чая отправлялся на кухню с другими курильщиками и там курил, пуская дым в дымоход очага. Герцог Саксен-Веймар почтил его официальным визитом, во время которого Джейн, предварительно вытерев везде пыль, сменив цветам воду и удостоверившись, что горничная одета в свое лучшее платье, ушла к миссис Буллер. Когда герцог прибыл, Карлейль как раз «занимался с янки», которого представил ему Эмерсон. Янки хотел было задержаться, но был немедленно выпровожден, и герцог около часа беседовал с Карлейлем. Карлейль после рассказывал Джейн, что герцог был очень хорош собой, с прекрасными голубыми глазами, настоящий аристократ и обладал самой благородной внешностью изо всех знакомых Карлейлю немцев. Неужели даже благороднее Платнауэра? — спросила она язвительно. «Нет, разумеется, несокрушимое благородство Платнауэра — со всеми его сюртуками — нигде больше не встретишь», — добродушно ответил Карлейль.
Добродушие было не самой характерной его чертой в то время, хотя он не забыл сделать Джейн подарок к Новому году и купить ей брошь с камеей на день рождения. Он часто обедал в гостях, и его высказывания о добродетели и пороке звучали так, как будто были внушены ему господом. Когда Милнз, который любил поддразнить Карлейля, заметил, что добро и зло — понятия относительные, он получил прямой отпор: «Однако мы знаем, что такое порок; я знаю порочных людей, людей, с которыми я не стал бы жить вместе: людей, которых я при определенных обстоятельствах убил бы или они убили бы меня». Оригинальные рассуждения молодого человека по имени Скервинг по поводу добра и зла были перечеркнуты словами: «Теперь я вижу, что вы такое — нахальный щенок, адвокатишка из Эдинбурга». На званом завтраке он вступил в жестокий спор с Маколеем о достоинствах сына Кромвеля, Генри; во время поездки в Манчестер затеял с Джоном Брайтом спор о пользе железных дорог и рабства среди негров. Когда он проводил время у Берингов, Милнза или в ином фешенебельном обществе, его все больше одолевало чувство вины за праздность, пустоту и шум, окружавшие его. Гостя у леди Гарриет, он писал Джейн, которая в это время лежала в Челси больная, с невольным комизмом в тоне: «О Господи! Почему я жалуюсь тебе, бедной, прикованной сейчас к постели? Не буду жаловаться. Только если бы ты была сильна, я рассказал бы тебе, как я слаб и несчастен».
В этот несчастливый момент, в октябре 1847 года, явился Эмерсон, приехавший в Англию для чтения лекций. Сойдя на берег в Саутгемптоне, он получил восторженное приглашение пожить на Чейн Роу. «Знай же, мой друг, что воистину, пока ты в Англии, твой дом — здесь». Однако, когда Эмерсон приехал туда однажды в 10 часов вечера, Карлейль с глазу на глаз выразился уже не столь пышно: «Вот и мы опять собрались вместе». Они не встречались почти пятнадцать лет, со времени приезда Эмерсона в Крэгенпутток, когда Карлейль нашел, что Эмерсон самый милый человек, какого он когда-либо знал, а Эмерсон причислил беседы Карлейля к трем величайшим чудесам, виденным им в Европе. Годы изменили их обоих. Карлейль уже не собирался выслушивать его отвлеченные рассуждения об идеальной добродетели или о бессмертии души; его вообще не очень интересовали теперь споры, но лишь собственные мысли, которые выливались в блестящие монологи — наполовину комичные, наполовину серьезные, но целиком догматичные. Такой ум вряд ли мог оценить сухую, благородную, безупречную серьезность Эмерсона; да и Эмерсон был уже не тот скромный юноша, постигающий мир, который приезжал в Крэгенпутток. Он и сам пользовался немалой славой, сам привык говорить перед внимающей ему аудиторией, он, наконец, тоже имел репутацию пророка.
За несколько дней, пока Карлейль водил Эмерсона по Лондону, два мудреца имели возможность присмотреться друг к другу, причем отнюдь не к взаимному удовольствию. Эмерсон в своем дневнике отмечал многословные потоки речи Карлейля. «Он снова и снова, неделями, месяцами, повторяет одно и то же». Его «лохматое могущество» презирал искусства, он прерывал каждое предложение коротким смешком и каким-нибудь словечком, вроде «пустобрех» или «осел», а в ответ на мягкую критику в адрес Кромвеля он напустился на Эмерсона «с яростью». Мудрец из Конкорда заключил, что мудрец из Челси становится невозможен, и подыскал для него выразительное определение: «огромный падающий молот с приспособлением вроде Эоловой арфы».
Это Эмерсон о Карлейле. А что думал Карлейль об Эмерсоне? В первую очередь он жаловался на то же, на что и американец: слишком много слов. «Кажется, этот янки положил себе за правило, что его речь должна звучать все время и прерываться только ради сна: жуткое правило». Сблизиться с ним не было никакой возможности. Некоторая педантичность его манеры не понравилась Карлейлю; да и внешность гостя была ему неприятна. «Тонкое, худое треугольное лицо с заостренными чертами; губ нет совсем, сухой нос крючком; лицо петушиное: такой пороха не выдумает!» После отъезда Эмерсона Карлейль записал в своем дневнике, что от этого американца нечего было ожидать, «кроме дружеского взгляда и вычурной высокопарной вежливости; и он ни минуты не давал мне посидеть молча». Такие встречи всегда возбуждали в нем жалость к себе: «Я не знаю в мире более одинокого человека...»
Но самое живое, а возможно, и самое верное описание Эмерсона во время его визита на Чейн Роу оставила Джейн. Похвалив его вежливость и мягкость и то, как «он подается перед самыми спорными возражениями — мягко, словно перина», она добавляла, что ему не хватало того, «что мойщики шерсти в Йоркшире зовут „натурой“. Он обладал „какой-то теоретической гениальностью“ и был „самым возвышенным человеком, какого я только видела, но это возвышенность голого прута — весь пошел в рост и не успел взять вширь“. Может быть, тогда-то Эмерсон и сказал, рассуждая о конечном торжестве добра над злом, что и в доме терпимости помыслы человека оставались направленными ввысь? Джейн отвечала колкостями, и Эмерсон решил в конце концов, что миссис Карлейль ему не очень нравится.
Эмерсон отправился в турне — читать свои лекции; когда он возвратился в Лондон, Карлейли ходили слушать его выступление на тему «Семейная жизнь», о котором Карлейль в присутствии самого лектора сказал, что это «интеллектуальный туман». Артур Хью Клаф, молодой поэт и ученик Карлейля, также был на лекции; он указал на Карлейля одному молодому человеку, которому в этот раз не удалось поговорить с пророком, но он слышал «его громкий, слегка презрительный смех» после окончания лекции. Молодому человеку было в то время тридцать лет, он был, по словам Джеральдины Джусбери, эльфоподобен и странно красив; много лет спустя в качестве биографа Карлейля он поднял целую литературную бурю своей откровенностью. Имя его было Джеймс Энтони Фруд.