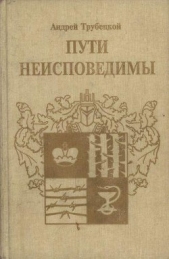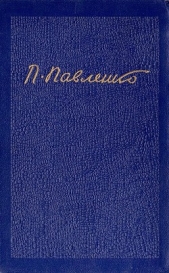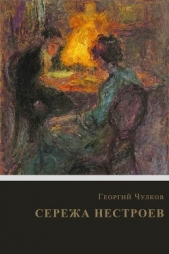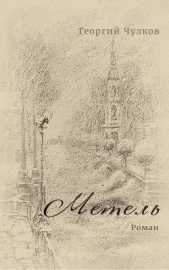Годы странствий

Годы странствий читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Словечко «Quat ’ z ’arts»[720] звучало во всех кафе.
Часам к восьми за столиками «Шартье», «Дюваля» и других ресторанчиков сидели «babyloniens»,[721] с бородами из пробки, с шлемами из жестяных воронок, с султанами из красных плюмо,[722] с копьями, украшенными медными розетками.
Бал был устроен на Монмартре, в зале Hippodrome.[723] После обеда вереницы художников и натурщиц потянулись из Латинского квартала на площадь St.-Michel,откуда ходят омнибусы на бульвар Рошешуар. Вагончики брались с бою.
Рев медных труб, свист гаменов[724] и странное мяукание «развеселившихся» проституток — все эти резкие, раздражающие, визгливые звуки неожиданно сливались в какую-то своеобразную гармонию. Это пела парижская улица, которую все считают веселою, но в которой всегда мне чудится почему-то давняя печаль.
И даже в этот день, день веселых масок, я видел в жутких и утомленных глазах парижан знакомую мне тайную грусть.
Но парижанин не любит делиться недугами души, подобно нашему российскому «интеллигенту», а если он решил «faire la noce»,[725] он не станет скупиться на словечки, прибаутки, каламбуры и забавные жесты.
На бал «Quat ’ z ’arts»попасть очень трудно, и я был рад, что мои знакомые художники любезно предложили мне присоединиться к их компании. Мы сели в таксомотор и поехали на Монмартр.
В одном из кафе против ипподрома был назначен сборный пункт, куда должны были явиться наши товарищи по ателье. На площади шумела огромная толпа, собравшаяся посмотреть замаскированных, и в кафе, куда мы едва пробрались, было шумно и тесно.
Странно было видеть вестоны[726] и жакеты среди полосатых тряпок, бутафорских мечей и цветного тюля. На мраморном столике, под неистовые звуки медных труб и бубнов, уже плясала маленькая полуголая женщина, с руками обезьяны и с синими огоньками в подведенных глазах. А рядом какой-то мрачный вавилонянин, с лицом, густо намазанным коричневою краскою, старался изобразить повешенного. Никто, кажется, не обращал на него внимания, но я запомнил почему-то его тощую фигуру в зеленом плаще и костлявые руки, которыми он пытался зацепить шарф за медный крюк; и до сих пор мне мерещится его странное лицо и высунутый язык. Почем знать, не повесился ли теперь этот человек, сбросив шутовскую маску? Не про него ли вчера я прочел в газете три строчки петита?
Наконец, мы с толпою пестрых и крикливых масок вошли в залу Hippodrome.
Колоссальные идолы, вавилонские шатры и фаллические символы[727] на декоративных панно, а главное, многоликая толпа полуголых женщин и мужчин — все казалось чем-то давно известным, знакомым, а, между тем, в сознании была ясная мысль, что такой «бал» возможен лишь в Париже и то лишь один раз в году.
И программа бала развернулась именно так, как можно было ожидать. Не прошло и часа, как уже почти со всех женщин были сорваны плащи и повязки — и на эстрадах, и в зале плясали нагие пары.
Вот в одной «ложе» пляшет около священного золотого быка голая полногрудая блондинка с голубыми круглыми глазами; вот в другой подвыпивший художник сбросил пояс и вертится неистово с какою-то натурщицею и, наконец, она вскакивает на его волосатую грудь, обхватив его плотно руками и ногами, а он продолжает плясать с нею под гул циничных замечаний; вот в третьей ложе перебрасывают с рук на руки маленькую нагую женщину.
Но это не оргия; это просто забава, очень бесстыдная и очень характерная для парижской богемы.
В полночь была устроена процессия. Каждое ателье выступало со своими колесницами, идолами и натурщицами, при звуках труб и бубнов. Хорошо сложенные женщины, иные в скучных академических позах, иные в карикатурно-бесстыдных, сидели и стояли в торжественных колесницах и носилках.
Потом был ужин. Сидели на полу, где попало, вытащив корзины с сандвичами и шампанским.
После ужина — полупьяный разгул, полупьяные хороводы, полупьяные поцелуи — и все это в присутствии полицейских, которые с веселыми лицами терпеливо дежурили всю ночь, бездействуя официально.
Утром перед ипподромом стояла густая толпа зевак, наслаждаясь редким зрелищем. Группы голых художников и женщин выходили с песнями и криками из залы и направлялись по улицам к фонтанам — купаться…
Прозрачен и свеж был воздух, когда я вышел из ипподрома и сел в таксомотор. Приятно было мчаться по серебристо-пепельным улицам, мимо старых каштанов, мимо древних камней…
«Что такое этот бал? — думал я. — Торжество или провал современного Парижа? На этом балу, в этом апофеозе наготы, было всеи, в сущности, ничего не было.Бесстыдство было доведено до предела, но оно не волновало толпы, не возбуждало ее и никуда не влекло. Маскарад остался маскарадом и не стал оргией. Вероятно, парижанам и не нужна оргия». Оргия — это слишком трудно, непрактично, опасно и, главное, ответственно. Парижанин слишком устал, чтобы чем-нибудь рисковать. Циничное балагурство и бесстыдный жест — это ни к чему не обязывает. Вот почему, когда какой-то иностранец или провинциал слишком увлекся одною из натурщиц, парижские «вавилоняне» поспешили развести их в разные стороны. Это было на моих глазах. Парижане знают точно, что можно и чего нельзя. И улыбающийся и как будто бы бездействующий полицейский среди голых натурщиц — это символ, красноречивый и убедительный.
Как в сущности приличен был этот неприличный бал. Что же это? Культура? Моральная дисциплина? Или, быть может, это утомленная плоть поет свою последнюю песню?
Ах, если бы одна из древних мумий музея Гимэ[728] ожила и пришла посмотреть на современность. Что стали бы шептать ее уста? Быть может, этот пришелец ужаснулся бы, увидев нашу угасающую страсть.
Мона Лиза
Я не верил своим глазам, когда прочел в газете, что Джиоконды нет в Лувре.[729] Безумец или преступник похитил прекрасную Мону Лизу? Кто он? Не тот ли, кто много раз писал письма по адресу: «Париж. Лувр. Моне Лизе. Я люблю вас безумно… Я вас обожаю, дивная…»?
Найдут или не найдут картину Леонардо,[730] все равно кумир оскорблен, и кощунство совершилось. Как необычайна судьба Леонардо. Почти все им созданное погибло, испепелилось — но тем прекраснее миф об этой странной и загадочной душе.
Те, которые защищают в эстетике идею «самоценности творческого порыва»,[731] могут с достаточною убедительностью ссылаться на Леонардо, оспаривая мнение эстетов, требующих от художника «совершенных и законченных произведений». Теории Леонардо иногда противоречат его творчеству. Леонардо сделал самого себя объектом искусства. Это не менее значительно, чем то, что он успел сделать как художник. И он дал миру новую тему — улыбку Джиоконды. Иные современники наши, иные поэты, никогда не видавшие Леонардо, зачарованы, однако, этою улыбкою потому, что легенда о ней живет уже независимо от картины художника. К чему стремится искусство? К созиданию объективных «ценностей»? К накоплению художественных «богатств»? Или оно не всегда заботится об украшении жизни, а живет безумною мечтою о том, что художник приносит вести из «иного мира», дает новый «знак», залог преображенной жизни? Пусть этот «иной мир» отразится в творчестве художника в условном образе, быть может, болезненно-искаженном, — все равно этот мучительный восторг нам дороже всех наслаждений, которыми мечтают пленить нас эстеты. «Освобождающиеся рабы»[732] Микеланджело[733] значительнее, чем его прекрасный Давид,[734] потому что в этих незавершенных творениях «просыпаются бури».
Мона Лиза жива. В ее улыбку влюблена современность. Если бы эта улыбка не померещилась в XV в. таинственному флорентийцу, быть может, мир не имел бы «улыбчивого» искусства XIX в. И пусть не прозвучат мои слова парадоксом, если я скажу, что, не будь Леонардо, не было бы и Сомова, как ни далек этот художник по манере своего письма от великого итальянца. Пути влияний Леонардо почти незримы. Иногда их можно лишь угадывать. Так я угадываю это отдаленнейшее влияние Леонардо на живопись художницы Серебряковой, чья портретная работа «За туалетом» находится теперь в Третьяковской галерее. Образ женщины, созданной Серебряковой, в известном смысле уже является для нас мифом: мы уже верим в самостоятельную жизнь той, которая смотрит на нас так лукаво, нежно и загадочно. И уже улыбку эту мы не можем забыть, как не можем забыть иные сны, которые пленяют нас навсегда.