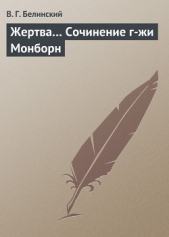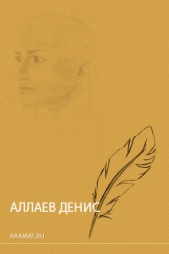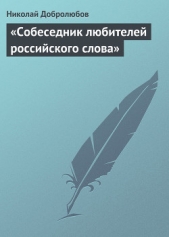Умри, Денис, или Неугодный собеседник императрицы
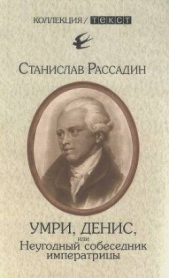
Умри, Денис, или Неугодный собеседник императрицы читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В этом смысле откровенен Державин, в оде «Бог» самоутверждающийся благодаря своему Создателю: «Ты есть — и я уж не ничто». Самостоятельностью, отдельностью он не дорожит — не то что гордец Пушкин, полукощунственно приравнивающий голос вдохновения к Божьему гласу.
Вот Державин:
Частица целой я вселенной,
Поставлен, мнится мне, в почтенной
Средине естества я той,
Где кончил тварей Ты телесных,
Где начал Ты духов небесных
И цепь существ связал всех мной.
Так ощущает себя человек этой эпохи: он часть, а не целое, и горд этим. Он входит кирпичом в общую кладку и боками удовлетворенно ощущает сплоченность ее, прочность и тесноту. Он сам себе интересен именно прикосновенностью к плотной громаде, увенчанной на небе Государем Небесным, на земле — земным (при этом, разумеется, персона царя может его не устраивать, однако необходимость в непременной персонификации государства он ощущает постоянно). Сама истина, цель, к которой извечно стремятся разум и сердце, становится особенно дорогой оттого, что ее внушают государям:
И истину царям с улыбкой говорить.
Улыбка — это и та доля независимости, которую себе может позволить принципиально зависимый человек, и граница своеволия: улыбайся, шути, но не восставай. И напротив: не восставай, но улыбайся.
Улыбка, в отличие от дерзкого хохота, — знак домашности, союзничества, внутреннего мира.
Так у Державина. Что же у Пушкина?
Совсем иное: «чувства добрые», «свобода», «милость к падшим призывал…». Правда, царскую милость, но к тем, кто восстал против царя.
Пушкин, государственник, в «Медном всаднике» мучительно ищущий равновесия между Петром Великим и маленьким Евгением, а в оде «Клеветникам России» по-державински становящийся на сторону государства против человечества, — он, Пушкин, все-таки уходит если не из-под власти, то из-под обаяния самодержавной государственности. Нерукотворный памятник, воздвигаемый поэтом самому себе, выше столпа, воздвигнутого царем царю, и, главное, разницу не измерить погонными метрами, тут не меньше-больше, не ниже-выше. Разница нерукотворна, как сам памятник, она выше вышины, то есть неподвластна официально установленным меркам почета и славы: кому Андрея Первозванного, а кому достанет и Владимира в петлицу.
И поэт — неподвластен. Он сам по себе. «Ты царь: живи один».
Сравнивая, я не хвалю и не хулю, да исторические закономерности вообще мало подходят для оценок: «это хорошо, а это дурно». Иногда хорошо, иногда дурно, не только в этом дело; отношения человека и общества эволюционируют, и если в восемнадцатом веке ответ на вопрос: «общество или я?» безапелляционен: «только общество» (что прозвучало в классицизме), то век девятнадцатый отвечает иначе: «общество и я», «я и общество», как угодно, даже романтически-бунтарски: «только я, ежели общество невыносимо». Это даже в некотором смысле вопрос второстепенный; главное: « человечество и я». Личность выделилась, вычленилась, в то же время еще не стремясь вовсе обособиться и оторваться… Говорю «еще», ибо, как показало искусство двадцатого века, ныне уже возник и окреп опасный соблазн ответить: «только я», возник прежде всего на Западе, где культивирование личности всегда было отчетливее. А за этим следует духовное одиночество, распад, разрыв всех связей, начиная с общечеловеческих, что остро и бедственно ощутили художники и философы.
Пушкин от этого далек. У него-то — не призыв к одиночеству, горечь которого слишком была ему известна. И разумеется, не самодовольное олимпийство — об этом говорит и «Памятник», где уверенность в заслуженности, своей незабвенности печально скорректирована условием бессмертия, тем самым: «жив будет хоть один пиит». «Хоть один» — это не державинский канат, сплетенный сообща, а ниточка.
Пушкин утверждает духовную независимость, которая поэту в конечном счете нужна для зависимости — от людей, от долга перед ними. Так что сама мечта уйти «в обитель дальную трудов и чистых нег» — не попытка удрать от полноты бытия и борьбы. Недаром в строке «На свете счастья нет, но есть покой и воля» рядом с «покоем» — «воля», то, без чего сам желанный покой не нужен.
Державин поднимал очи горе, возглашал тем, кто выше его: Богу, царям; с Богом беседовал, царям улыбался, порою смело. Пушкин — вне власти царя, по крайней мере земного (конечно, не физической власти: тут все беспомощны равно). «Чувства добрые» существуют помимо царей, они не ими определены; «свобода» существует вопреки им и, уж во всяком случае, не благодаря; «падшие» оттого и пали, что, подобно падшим ангелам, восставшим на Царя Небесного и Им сверженным в ад, восстали на земного царя и сосланы в ад земной. В «каторжные норы».
Об этом четвертая строфа пушкинского «Памятника».
Что касается пятой, то она давно вызывает недоумения и споры:
Веленью Божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца;
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.
«Загадочная, волнующая своей непонятностью строфа, совершенно не увязывающаяся со всем строем предыдущих строф», — сказал о ней Вересаев, а Гершензона загадочность подвигнула на создание полускандальной версии, согласно которой все, сказанное Пушкиным прежде, и чувства добрые, и милость к падшим, есть изложение чужого, пошлого мнения, того, за что ценит поэта «бессмысленный народ», — сам же он себя ценит за заслуги не столь утилитарные…
Однако смысл и этой строфы зависит от державинского «Памятника», да и как иначе? Пушкин писал для читателя, у которого знаменитый и недавний завет Державина был на слуху:
О Муза! возгордись заслугой справедливой,
И презрит кто тебя, сама тех презирай;
Непринужденною рукой, неторопливой,
Чело твое зарей бессмертия венчай.
«Возгордись… Презирай…» — рядом с этими призывами Пушкин и вправду словно бы скептически покорен: «будь послушна… не оспоривай…» Но и это — продолжение все того же различия.
Только после того, как Державин обозначил свою прикосновенность к царям, Небесному и земному; только после того, как он ощутил себя наинужнейшей частью и мироздания и здания государственного, он готов принять венец бессмертия. Он даже требует его; «венчай», — повелительно разрешает он своей музе, а непринужденность и неторопливость, с которыми она должна себя увенчать, как раз и говорят об ощущении заслуженности. Незачем торопиться: заслугу никто не отнимет. И принудить не смеет никто: заслуга, выслугадали ему право на венец — по законам, принятым в державе.
Это как выслуженное дворянство, как «патент на благородство», добытый трудами и врученный по трудам: не случайно незнатный Державин уязвленно и гордо отметит свое возвышение «из безвестности».
«Венчай», — требует Гаврила Романович; «не требуя венца», — говорит Пушкин. Даже не «не требуй», а именно «не требуя», вскользь, в деепричастном обороте. Но отчего же не требовать? Сам же только что, нимало не скромничая, перечислил свои заслуга, для которых понадобились и мужество и гений.
Оттого, что — у кого же требовать? У царя? У толпы? «Зависеть от царя, зависеть от народа»? К чему? «Ты сам свой высший суд».
Нерукотворный памятник выше способности самовластия оценить заслуги поэта, как оценило оно победу Александра над Наполеоном постановлением столпа. И суд высший не потому, что главнее императорского. Он просто другой, особый, царям непонятный и неподвластный. Они тут ни при чем.
«Ты царь» в своем царстве, а не они.
Надеюсь, что меня не заподозрят в ледяном объективизме, если скажу еще раз: я не хулю, не хвалю, я всего лишь — в данном случае — сравниваю. В Фонвизине или Державине уже Пушкину многое казалось неблаговидным (или, точнее, еще Пушкину, ибо тут было полемическое отталкивание ближайшего потомка). Державина он прямо укорял в льстивости, о фонвизинском характере отзывался, что тот «нуждается в оправдании». В черновике же, нередко более откровенном, чем беловик, сказано резче:
«…Характер коего не очень достоин уважения».