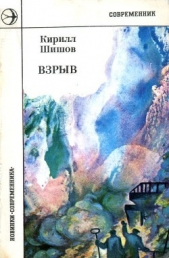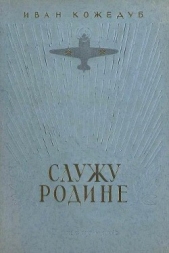Кирилл Кондрашин рассказывает о музыке и жизни
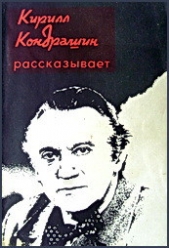
Кирилл Кондрашин рассказывает о музыке и жизни читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Через год после этого я был на Западе. Мне преподносят пиратскую пластинку с той самой пленки, которая у меня дома сделана. Радио не было, но записывали для начальства.
Кто-то из тех, кто записывал, нагрел себе руки и продал эту пленку на Запад. Там даже накладка есть в одном месте… Симфония обошла весь мир, а нот не давали. Я имел свою пластинку, в других странах также издали эту пластинку, по дешевке скупали и грели на этом руки.
В. Р. Не было партитуры?
К. К. Нет. Орманди бомбардировал телеграммами меня, Союз композиторов, министерство. Он хотел обязательно первым исполнить, ему все время под всякими предлогами отказывали.
Тянулось это до 1965 года. Не исполняли. И вдруг — команда писать на пластинку, нужна пластинка. После того как весь Запад был наводнен браконьерской, все решили, что нужно выпустить нашу, настоящую. Ну и поднялось. Во-первых, другого солиста привлекли, Эйзена, с интересным голосом, и мы с ним спели сначала в Ленинграде (для Ленинграда это была премьера), потом в Москве осуществили запись. Причем сам Евтушенко по своей инициативе притащил кое-какие варианты «Страха», еще более рыбьи. Но тут я запротестовал. Между прочим, я покаялся Шостаковичу.
— Дмитрий Дмитриевич, я виноват, что все это посоветовал. Все равно толку никакого не было.
— Да, надо исполнять старый вариант.
И когда мы писали, Эйзен пел старые слова и в Ленинграде исполнял старые слова. Но тут опять вмешался замминистра Кухарский:
— Сделайте на всякий случай другой вариант тоже.
Сделали. И приказ — чтобы пошел второй вариант. Причем, сидели, слушали, выслушивали, даже заставили что-то переписать, потому что одно слово было не очень понятно. Какая-то инверсия получилась, ничего не меняющая, но в общем, не так, как написано, как должно быть написано. Вообще, с этой пластинкой была невероятная свистопляска. Пластинка вышла в количестве пяти-шести экземпляров. У нас и на Западе, всюду продается как совместная фирмы «Мелодии» и местных кампаний.
Партитуру издали, естественно, с новыми словами. Когда она еще не была издана, помню, в году 67–68-м, Дмитрий Дмитриевич мне позвонил:
— Кирилл Петрович, вот сейчас готовится издание Тринадцатой симфонии, я проставил метрономы по Вашему исполнению, у меня есть пленка, но мне бы очень хотелось, что бы Вы проверили и сказали свои метрономы, и мы сверим.
Я посидел с метрономом, потом по телефону сверили и почти все совпало. Тогда Дмитрий Дмитриевич сказал мне:
— У меня с метрономом всегда неблагополучно. Я пишу метроном, ставлю, не думая, что это порою исполнить даже нельзя.
Да, я помню, что когда после Тринадцатой симфонии мы были у него в гостях, он выпил немного.
— Кирилл Петрович, я только попрошу Вас, там у вторых скрипок в последней части, во вступлении, там есть модуляция ре — ми-бекар — фа — такая неописуемая красота! — стесняясь, о своей музыке говорил он.
Действительно, я потом эту нотку вытащил и через одну ноту — модуляция такой красоты необыкновенной.
Шостакович вообще к балансу звучания внимателен и всегда отмечает в нотах и следит, чтобы это было исполнено.
История Тринадцатой симфонии дальше сложилась так, что постепенно ее стали протаскивать. В Ленинграде ее исполнил Темирканов. Уже пластинка продавалась. Уже готовится, вроде бы, издание. И все равно: то будет, то — нет. Пластинка была записана в 1965 году, ее мариновали столько времени! Появилась она в продаже только в 1972 году.
Да, Темирканов пометил себе в абонементе Тринадцатую симфонию. Ее объявили. Когда наступил момент концерта, план уже был составлен, а ему говорят, что Ленинградский горком (или райком) возражает против симфонии.
— Кто возражает?
— Вот, секретарь по пропаганде.
— Устройте мне с ним свидание.
Тот принимает.
— Я пришел к вам поговорить по поводу Тринадцатой симфонии Шостаковича, — говорит ему Темирканов.
— Да, Юрий Хатуевич, что она вам далась? Столько хороших симфоний у Шостаковича, почему вам не сыграть Пятую, Восьмую, Десятую.
— Простите, вы, видимо, не поняли, о чем я хочу с вами говорить. Я у вас не прошу рекомендаций, какую симфонию мне играть. Я хочу спросить у вас, что имеете вы против Тринадцатой конкретно?
— Да нет, ничего.
— Если ничего, тогда давайте наш разговор закончим. До свидания. Спасибо.
И играл. Умница! Да, поставил перед фактом. А тот поставил «галочку», что сигнализировал, и так все прошло. Все были довольны, и до сих пор эта симфония полузапрещенная. В Новосибирске ее протаскивали. Кац имел неприятности. Каждый раз это повод для того, чтобы зарегистрировалось начальство.
В. Р. За Шостаковича боролись все честные музыканты. А за границей Вы играли ее?
К. К. Нет, конечно.
В. Р. А кто же ее в Лондоне исполнял в 1968 году? Я читал Рекламу на английском…
К. К. Может быть, Рождественский? Я не слышал об исполнении.
Когда мы делали «Казнь, Степана Разина» (это следующее большое сочинение Дмитрия Дмитриевича, которое сразу он поручил мне), тоже не обошлось без неприятностей. Во-первых, Евтушенко в то время ходил в бяках. После «Бабьего яра» все, что писал Евтушенко, вызывало нездоровый интерес. «Казнь Степана Разина» — это глава из его «Братской ГЭС». Когда Шостакович закончил поэму (он никогда заранее не говорит, что он пишет), он позвонил мне:
— Вот, Кирилл Петрович, я сочинил, приходите послушать.
А после игры сказал:
— Я хочу, чтобы Вы, Кирилл Петрович, это делали. Давайте поговорим о солисте.
— Вот Нечипайло нас подвел, давайте Петрова попросим. Он сейчас здесь, и партия меньше, чем та.
Петров согласился, на всякий случай его Громадским подстраховали. Я нравы Большого театра знаю. Петров отнесся к этому делу крайне несерьезно. Он музыкальный человек, выучил все быстро. Но когда я к нему приходил заниматься, он пел вполголоса, никакой интонации и выразительности от него потребовать не мог. Из пяти оркестровых репетиций он пришел на две, и то с одной ушел с половины, сказав, что у его дочки день рождения. И Громадский пел за него сплошь.
Генеральная репетиция. Оркестр уже пришел. Марк Борисович, директор зала, говорит:
— Звонит Петров, он плохо себя чувствует, на репетицию не придет, но вечером петь будет.
Вот тут уж меня взорвало:
— Дмитрий Дмитриевич, я считаю, что должен петь Громадский.
— Конечно, будет петь тот, кто поет генеральную репетицию. Громадский может быть не очень тверд, но попробуем.
А вокруг уже ходили всякие советчики. Вот тут надо сократить, переработать. Висели такие веяния в воздухе, и я тогда подошел к Шостаковичу:
— Дмитрий Дмитриевич, я помню свою погрешность относительно текста Тринадцатой симфонии. Я Вас заклинаю — не снимайте сегодня этого исполнения ни по какому случаю.
— Кирилл Петрович, исполнение не состоится только в том случае, если некому будет петь.
Громадский справился, и тут вдруг никаких окриков. Сочинение пошло, получило большой успех. Прошло все удачно, исключительно удачно спела и юрловская капелла. Громадский здесь оказался больше кстати, такой рубаха парень. А позднее, когда Четырнадцатая симфония вызвала наверху брожение, тоже никаких публичных окриков не последовало, и в прессе ни строчки не было написано. А о Тринадцатой симфонии просто говорилось на партактивах, о том, что это не наша музыка и: «Что это у вас за кандидат в партию, который нам преподносит такую симфонию?» (Шостакович к этому времени вступил в партию.)
В. Р. Четырнадцатая симфония ведь тоже была праздником для уставших от запретов людей. И потом, там ведь что-то «судьбинское» произошло, на премьере?
К. К. Через год после «Степана Разина» Шостакович сочинил Четырнадцатую симфонию. Он позвал меня. Я пришел с женой, и был там Баршай, который играл потом симфонию.
Дмитрий Дмитриевич совсем плохо тогда играл на фортепьяно. Понять было очень трудно. Мы смотрели в ноты, а он играл и пел, волновался очень. Узнав замысел, мы с Баршаем только переглянулись.