Записки
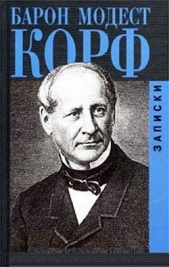
Записки читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Молчи, молчи, — отвечал Суковкин, уже догадавшись, что тут далеко от салюта, — слава Богу, что так вынесло!
Больше ничего не было, и их повезли по тому же отъезду, по которому проехал и государь; но крестьянин, мало знакомый с дорогой, заплутался и принужден был, уже в нескольких верстах от Познани, остановиться. Только тут они могли осмотреться и убедились — рана нанесена не Кирилину, а его шинели. Сидевший на запятках писарь отвечал, что видел только, как в темноте блеснул огонь, но больше ничего рассмотреть не мог.
Во всем прочем рассказ Суковкина был совершенно сходен с слышанным мною от графа Орлова.
Впоследствии, и именно в январе 1844 года, было еще напечатано в прусских газетах объявление познанского обер-коменданта, что как все еще не открыто лица, выстрелившего по экипажам свиты русского императора, то тому, кто навел бы достоверно на следы виновного, обещается в награду 1000 червонных. И это, однако же, осталось без результата. По этому делу ничего более не было обнаружено. И оно (как подтвердил мне в 1857 году князь Орлов) осталось навсегда покрытым прежней тайной.
По возвращении из Берлина в Петербург государь подвел к колыбели новорожденного своего внука, великого князя Николая Александровича, трех младших своих сыновей.
— Присягайте, — сказал он им, — будущему своему государю. Жизнь моя и вашего брата всегда на волоске, и Бог знает, не скоро ли вы будете подданными вот этого!
Государь желал, чтобы предстоявшие в зиму с 1843 на 1844 год в царственной нашей семье два бракосочетания — великой княжны Александры Николаевны с принцем Гессенским и великой княжны Елизаветы Михайловны с герцогом Нассауским — были совершены в один день и вместе; но министр императорского двора, князь Волконский, противопоставил этому одно, хотя и довольно оригинальное, однако решившее участь дела препятствие, именно, что по церемониалу великие княжны должны быть, при брачном обряде, в коронах, а у нас — всего только одна такая корона; подобный же случай двух свадеб вдруг, может статься, никогда более не повторится, почему изготовление второй еще короны было бы напрасным и, между тем, довольно значительным расходом.
Другую подобную же проделку хозяйственной расчетливости князь Волконский прикрыл, по крайней мере, благовиднейшим предлогом. При браке наследника цесаревича в 1841 году [84] венец над ним держал генерал-адъютант граф Петр Петрович Пален [85], как старший в чине из холостяков при дворе. Императрица в разговоре с ним упомянула, что и при браке Александры Николаевны, вероятно, ему же придется исполнять эту обязанность. Пален отвечал, что вменит себе то за счастье, но как товарищем его, должно думать, будет великий князь Константин Николаевич, то надо бы сделать новые венцы, по чрезвычайной тяжести прежних, которые и он, Пален, при всем высоком своем росте, едва мог сдержать в продолжение церемонии [86]. Против этой, тоже немаловажной издержки, Волконский нашел отговорку в том, что прежние венцы употребляются при всех царственных браках еще со времен Бориса Годунова [87], следственно, сколько они ни тяжелы, имеют историческое значение, которым едва ли можно пожертвовать из каких-нибудь личных уважений.
При императоре Николае постоянно соблюдался обычай устраивать во дворце елки накануне Рождества. В 1843 году к той, которая была назначена для великой княжны Александры Николаевны, государь, между другими подарками, приказал привязать и ее жениха [88]. Можно представить себе, сколько смеху, при входе в залу, возбудила собою эта оригинальная идея!
На выходе 25 декабря во дворце два лица и одна вещь привлекли на себя общее внимание. Одно из лиц был армянский патриарх Нерсес, оказавший нам, еще в сане архиепископа, большие услуги во время присоединения Армении, потом подпавший немилости князя Паскевича, вследствие того долго остававшийся в забвении и на невыгодном счету у правительства и уже только после многих представительств утвержденный государем, по народному избранию, в патриаршем сане. Вскоре за сим пожалованием Нерсес приехал, летом 1843 года, в Петербург, где паралич лишил его движения всей правой стороны и, вместе с другими недугами, положил на смертный одр, так что собранные на консилиум врачи решили, что ему остается жить не более суток. Тут камергеры братья Лазаревы, постоянные покровители и представители армянского народа, написали от имени сего последнего письмо к известному нашему магнитизеру Андрею Ивановичу Пашкову [89] с просьбой испытать его силы для спасения их архипастыря.
Пашков посредством советов и предписаний (гомеопатических) главной из своих ясновидящих, г-жи Висковатовой, в каких-нибудь шесть недель восстановил силы патриарха до такой степени, что возвратилось употребление разбитой параличом стороны, и он стал опять писать, говорить и ходить по-прежнему, — словом, что он выздоровел, как только можно было желать при глубокой его старости, а 25 декабря мог даже явиться во дворец. Желание его было присутствовать при литургии в алтаре; но по справке с архивами оказалось, что присутствовавшие при коронации императора Николая два армянских архиерея стояли в Успенском Соборе вне алтаря, с публикой, что государь приказал сделать и в этот раз.
Таким образом, Нерсес поставлен был в церкви перед двором, непосредственно за великими князьями, в сопровождении своего спутника и пестуна — одного из братьев Лазаревых [90]. Эта черная с головы до ног фигура, в остроконечном своем клобуке, производила, посреди блестящих придворных мундиров, необыкновенно поразительный эффект.
Другим замечательным лицом на выходе 25 декабря являлся сенатор граф Илинский, девяностолетний старец, который, не присутствуя в Сенате уже лет тридцать и живя с тех пор постоянно в богатых своих поместьях на Волыни, приехал в это время в Петербург по срочным своим делам. Длинный, едва движущийся, сгорбленный, с впавшим брюхом, с огромным седым париком, кажется, и нарумяненный, он, в красном сенаторском мундире, обвешанный весь орденами, чрезвычайно походил на те куклы, которые выставляются в кабинетах восковых фигур. Хотя поляк и католик, он счел за нужное простоять всю обедню в церкви, и присутствие его там было тем страннее, что его ввели и все время поддерживали с обеих сторон под руки два придворных лакея.
Илинский, в то время старейший между всеми сенаторами и по летам и по чину, носил это звание с 1797 года. История его первоначальной карьеры сопряжена была с очень примечательным анекдотом. Известно, в каком стеснении и в какой почти опале жил великий князь Павел Петрович в Гатчине. Однажды в тамошних садах встретился ему польский магнат, бывший уже в то время (с 1793 года) действительным камергером, наш Илинский. Великий князь казался погруженным в мрачную задумчивость. Илинский, знакомый ему по двору, осмелился при разговоре спросить о причине грустного расположения духа. Павел Петрович излился в горьких жалобах на свою участь и заключил тем, что денежные обстоятельства его таковы, что он лишен даже возможности рассчитаться с частными своими кредиторами, настоятельно домогающимися удовлетворения.
— Ваше высочество, — отвечал Илинский, — я почту себя счастливым, если вы изволите располагать всем моим состоянием; у меня есть теперь наличными деньгами 300 тысяч рублей; осчастливьте меня их принятием.
Великий князь принял предложенное ему с удовольствием и признательностью, а две недели спустя смерть Екатерины возвела его на престол. Разумеется, что Илинский не был забыт. Новый император произвел его в тайные советники, с повелением присутствовать в Сенате, пожаловал ему Анненскую, а потом и Александровскую ленту, и наградил несколькими миллионами, все в одном и том же 1797 году. В действительные тайные советники он был произведен уже при императоре Николае, в 1829 году. Появление Илинского вновь при дворе было оригинально и тем, что он, по старинному обычаю, другими в то время уже совсем оставленному, носил свои три звезды не только на мундире или фраке, но и на фиолетовой бархатной шубе [91].


























