Охотник вверх ногами
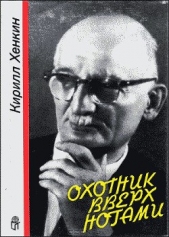
Охотник вверх ногами читать книгу онлайн
Эту книгу автор посвятил памяти его близкого друга Вилли Фишера (Рудольфа Абеля), она проливает свет на специфику работы НКВД-КГБ среди интеллектуальной элиты Запада и русских эмигрантов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда?
Вы с детства верили в победу дела, которому служили. Что же, к сожалению эта вера вполне оправданна. Выросшая на критике и изучении капиталистической системы, социалистическая система переигрывает ее легко и, вероятно, переиграет до полного уничтожения. Но верить в победу и верить в правоту — вещи разные. И мне кажется, — я сужу по некоторым Вашим замечаниям — что Вы начали приходить к мысли, что верить в победу социализма очень безотрадно.
Это все равно, что верить в неминуемую катастрофу.
Еще одна тема, которую мы с Вами наметили и не успели обсудить.
Мы не раз говорили о двойниках, об их растущей роли в разведке. Вам, приверженцу классицизма, это претило.
Вы как-то сказали: «Скоро вообще нельзя будет понять, кто есть кто»? Вы воспользовались выражением «ху из ху»?
Почему же бывший начальник СМЕРШа Абакумов, ставший наркомом государственной безопасности и Вашим шефом, послал Вас на вышедшую из моды и устаревшую роль «классического» нелегала?
Эту вышедшую из моды работу Вы, очевидно, и выполняли первые годы Вашей жизни в Америке и лишь затем Вас провалили. Зачем? Чтобы утвердить противника в мысли, что работа Москвой ведется старыми методами? Для укрепления позиций какого-то двойника? Уж не «Шведа» ли? Или Хейханнена? Вряд ли. Этот играл, мне кажется, вспомогательную роль, хотя и был липовым предателем.
Но главное тут другое. Когда противники — и какие! начнут, не свернут с пути! — начинают одновременно применять метод засылки двойников, один с русским революционным размахом, другой с американской деловитостью, могут ли они в порыве игры избежать постепенного взаимопроникновения столь глубокого, что оно перейдет уже в некое слияние? Но при таком слиянии какая-то сторона должна получить преобладание, как более сильная.
Как любят писать некоторые обозреватели: будущее покажет, в каком мире мы живем.
Меня не было в Москве, когда туда приезжал и искал встречи с Вилли его бруклинский друг, художник Берт Сильверман.
Начальство, разумеется, категорически запретило встречу, хотя существование «полковника Абеля» было уже тогда официально признано и его персонаж был включен в пропагандную обойму. Вилли очень переживал. Видел в этом злобную зависть московских шефов к подчиненному, познавшему звездный час мировой славы, за которую легко можно было заплатить жизнью.
С огромным смаком рассказал мне Вилли о пикантном продолжении этого визита.
Пытаясь связаться с Вилли через Виктора Луи, Сильверман дал ему для передачи своему другу несколько проспектов собственной выставки и альбом рисунков их общего друга Дэвида Левина с намеренно безличной дарственной надписью.
Проспекты были без задержки переданы по назначению. Альбом же через некоторое время привлек внимание книголюба Мориса Коэна, когда тот рылся на полках букинистического магазина на улице Качалова, 10. Сообразив, кому предназначен альбом, Коэн тотчас его купил и привез в Челюскинскую.
— Уровень! Уровень! — возмущался Вилли. Он полагал, что альбом украл не Луи. Богат, да и не посмел бы. Скорее, какой-нибудь средний начальник. Вилли думал на Пермогорова. Авось сойдет! Никогда не вредно заработать пятерку.
Уровень! Уровень!
Вилли был, разумеется, прав, и украл альбом кто-то из «конторы», но встречу ему запретили, полагаю, не только из зависти.
Как видно из письма, которое оставил для передачи Вилли Берт Сильверман, он хотел просить у него прощения, что после ареста «Эмиля Гольдфуса» не захотел с ним переписываться.
В Москву он приехал искать ответа на вопрос: предал ли «Эмиль Гольдфус» их дружбу, простым фактом притворства, выдавая себя за другого.
Мне кажется, что произойди эта встреча, прощения просил бы Вилли. Именно из-за предательства дружбы (которую Вилли так высоко ценил), этого человеческого чувства, мой друг переживал происшедшее. Мне кажется, что в Америке и произошел у Вилли душевный перелом. Там впервые в жизни он пережил свою работу, или хотя бы часть ее, как предательство. Притворство перед бруклинскими друзьями было ему в тягость. Прежняя работа за границей не нарушала его морального комфорта, позволяя четко различать между товарищами по работе, с которыми он был откровенен и душевно близок, и людьми окружавшего его чуждого мира, по отношению к которым у него не было моральных обязательств. Но по мере того, как дома, в России, мужал и креп советский строй и постепенно исчезали его товарищи, на смену которым приходили люди ему глубоко чужие, это шаткое равновесие исчезало.
Пока не появилось чувство, что он обманывает своих ради людей ему чуждых и даже, возможно, враждебных.
Инерцию верности не так легко преодолеть, а этой инерцией Вилли был наделен в изобилии. И он сохранил формальную верность тем, кому служил всю жизнь. Формальную, но мне сдается, не внутреннюю.
Как увлеченно он говорил о своих бруклинских друзьях, как презрительно определил Фильби одним словом: «предатель», как легко понял и принял мое решение уехать из России и сохранил мою тайну.
Последние годы Вилли запоем читал Самиздат и Тамиздат, которые я ему носил. Ему было бы, разумеется, все это легко достать на работе через того же еще не умершего Агаянца, специалиста по дезинформации, с которым он дружил. Но на это Вилли не хватало — боялся показать сослуживцам свой интерес к запрещенному. Читал тайком от жены и дочери.
А после того, как я дал ему прочесть «Воспоминания» Надежды Яковлевны Мандельштам, я не уезжал из Челюскинской без собственноручно срезанного и собранного им букета, который отвозился на Черемушкинскую улицу. «Это от вашего шпиона?» — «Да, от него».
И уж совсем тайком, в лесу, на прогулке с собаками он сказал мне: «Если все до конца осознать и признать, то остается только взять веревку и повеситься».
Сыгравши до конца роль полковника Абеля, вернувшись в Москву, Вилли Фишер был уже не тем, которым отправился в путь в 1948 году.
Не случись ему сыграть «полковника Абеля», не окажись он перед выбором: верность КГБ или служба в ЦРУ, кто знает, что бы стало. И Вилли, может быть, нашел бы и для себя хитрый ход, чтобы сойти с того чуждого ему по существу пути, ведущего мимо настоящего дела и, главное, мимо искренних человеческих чувств. Но с этого пути, неосторожно избранного Вилли, уходить надо в самом начале.
Не знаю, может ли появиться сегодня новый «полковник Абель» — новый Эмиль Гольдфус или Вилли Фишер появиться не может.
— Я обязан вам своей нынешней свободой, — сказал я однажды Вилли. В саду на даче нас никто не мог слышать, кроме о чем-то совещавшихся собак.
Вилли сразу понял о чем я говорю, улыбнулся.
— Не надо только говорить об этом моему начальству.
С Бишкой случился в этот момент, как с ним часто бывало, припадок, вроде эпилептического. Он, упав на бок, забился в судорогах. Опустившись на колени, Вилли стал массировать пса по какой-то им самим изобретенной методе, что-то шепча в лохматое ухо.
Бишка наконец глубоко вздохнул, расслабился, начал лизать руку хозяина. Вскочил. Миня следил за происходящим с некоторым удивлением.
Я думал, что Вилли не вернется к затронутой теме.
— Не пойди я в свое время работать в ИНО, — сказал он, поднимаясь и стряхивая с колен еловые иглы, — был бы я сегодня художником. — И добавил, осклабившись: — Членом Академии...
Почему Вы не стали художником, а стали шпионом? Ведь трудно было придумать менее подходящее для Вас занятие?
В чем был глубокий смысл Вашего провала в Америке? В чем заключалась «проверка Шведа» — или помощь ему?
Зачем затеяна сегодня громоздкая и, надо полагать, очень важная для Москвы возня с «третьей эмиграцией»?
Какова новая роль разведки в современном мире?
Как было бы хорошо обсудить с Вами эти вопросы, дорогой Вилли. Вы поначалу заворчали бы, говоря, что я как всегда, фантазирую, а потом, глянь, как это подчас бывало, и сказали бы что-нибудь.























