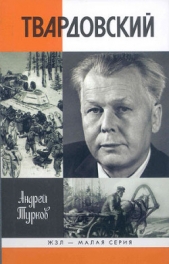Родина и чужбина

Родина и чужбина читать книгу онлайн
Воспоминания родного брата поэта Александра Твардовского. Раскулачивание, ссылка, плен, лагеря - в общем обычная жизнь в России 20 века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В 1934-м, 1935-м, да и не только в эти годы, но еще и прежде он подвергался яростным нападкам за якобы проводимую в его творчестве неверную, не соответствующую действительности и задачам дня идеологию. Ярлык "кулацкий подголосок" приклеить было несложно: сын раскулаченного отца. О том же, что вечный труженик-отец был несправедливо и жестоко обижен невеждами, волей случая оказавшимися в положении власть имущих, никто не хотел подумать.
А. И. Кондратович в книге "Александр Твардовский" на основании сохранившихся публикаций смоленских газет пишет: "Нападки такого рода повторялись не раз и не два, но в 1934 году они приобрели уже характер угрожающий. «Негодовали» как раз потому, что поэт показывает колебания крестьянина, — мол, в то время таких колебаний совсем не было: крестьянин рвался в колхоз. Обвиняли в том, что он идеализирует мечту крестьянина о своем единоличном хозяйстве и тем самым подпевает кулацкой идеологии: так и писали о Твардовском как о "кулацком подголоске".
Таким образом, моя смоленская встреча с братом совпала с тем периодом, когда он носил в душе боль тяжких обвинений от людей, с которыми был рядом, то есть от смоленских же литераторов — В. Горбатенкова, И. Каца, Н. Рыленкова, Н. Павлова, пробивавших себе дорогу в литературу путем непозволительного очернения тех, кто своим талантом мог их заслонить.
Надо думать, что Александр догадывался, что мне, как и всем остальным родным, ничего не известно об этих терроризирующих его нападках, и, видимо, не хотел, чтобы это стало известно матери: о себе он ничего не сказал.
И потом, лишь единственный раз, мне довелось слышать неодобрительный отзыв Александра Трифоновича о Н. И. Рыленкове. Это было в 1956 году 18 сентября. Вместе с А. Г. Дементьевым Александр Трифонович приехал в Смоленск, чтобы навестить мать. Было застолье, и, поскольку Рыленков жил в том же доме, на той же лестничной площадке, мать спросила Александра, пригласить ли Николая Ивановича.
— Рыленкова? — переспросил он. — Нет! Не надо! Не хорошо помнить, но что поделаешь? Для него я был "кулацкий подголосок".
Встречей с братом летом 1934 года я остался недоволен. Мне казалось, что мой приезд и сама встреча пробудили в нем, не побоюсь сказать, чувства некоей вины или даже угрызения совести. Забыть о письме к нам в ссылку, о встрече с отцом в том же Смоленске в 1931 году у подъезда Дома Советов он не мог. Так я думал, и мне было жаль брата. Нравилось мне или нет, но я не мог не учитывать того факта, что был он искренним комсомольцем двадцатых годов. Мысли во мне роились, может быть, путано и сбивчиво, но, в теперешнем моем осмыслении, мне представлялось, что революционное насилие, коснувшееся родителей, братьев и сестер, пусть ошибочно-несправедливое, как бы явилось тем пробным камнем для Александра, когда нужно было показать, чего ты действительно стоишь как комсомолец. Может, даже не кому-то показать, а прежде всего показать своему внутреннему «Я» — самому себе. Видимо, мог он рассуждать примерно так: "Каждый кулак — чей-то отец, а его дети — чьи-то братья и сестры… Чем же твои родные лучше других? Наберись мужества, скрепи сердце, не давай воли абстрактному гуманизму и тому подобным внеклассовым чувствам" (цитата из письма одного литератора ко мне). Такова могла быть логика. Если уж идешь со своей душой за коллективизацию, а значит, и за ликвидацию кулачества как класса, то просить исключения для своего отца не было моральных прав.
Есть основания верить, что в душе Александр скорбил и больно переживал допущенную местными властями несправедливость по отношению к нашей семье, но из этого ничего не следовало, аргумент для того времени весьма слабый, ибо таких, как наша семья, среди раскулаченных было много, так как четких критериев для отнесения того или иного хозяйства к числу кулацких не существовало. Если в двадцатые годы признавалось в качестве такого критерия использование наемного труда (хотя часто это был мнимый критерий, так как наемным трудом порой приходилось пользоваться по необходимости и беднякам, например: нет своей лошади или же мужских рабочих рук), то с началом коллективизации и он был отброшен.
В автобиографии Александр Трифонович писал: "В жизни нашей семьи бывали изредка просветы относительного достатка, но вообще жилось скудно и трудно…" Что ж, выходит, что он не забывал об этом, а стало быть, оставалось только одно: "Наберись мужества, скрепи сердце…" Видимо, так оно и было: лишь отрывочно осведомился он о положении нашей семьи и совсем не стал расспрашивать, каким образом она перебралась с Урала в Уржумский район Вятской области.
Волька Перельман не вникал в подробности моей встречи с братом. Теперь он уже знал, что брат — поэт, очень хотел видеть его, но обстановка была такова, что я не мог его взять с собой. Он оставался у Анны Митрофановны, иногда уходил посмотреть город, но уже было ясно, что в Смоленске не останется. Когда же узнал, что я собираюсь уехать, то обрадовался и воскликнул: "Отлично! Едем обратно в Турек!" Но возвращаться в Турек я уже не хотел.
Накануне отъезда из Смоленска, чтобы застать брата дома, я прямо с утра пошел к нему попрощаться. Застал его возле дровяника, где, видимо, вместо зарядки, он возился, не то укладывая, не то поправляя поленницу. Заметил меня, взмахнув руками, начал было говорить, что вот, мол, понимаешь ли, надо: печное отопление. "Приходится и этим заниматься! — И, вздохнув, продолжил: — Оно, знаешь, не во вред".
— А я, Шура, пришел… проститься. Уеду я! — что-то во мне дрогнуло, перехватило дыхание, он это тут же заметил, приблизился и, положив руку на мое плечо, нежно и осторожно сказал: "Слушай, Ваня, мой совет — совет брата. Оставаться тебе в Смоленске или нет, волен и должен решать сам, ты не мальчик".
— Да-да. Я понимаю. Я решил: уеду непременно!
— Вот что, Ваня, — глянул на часы, — я сейчас же переоденусь, и мы пройдем вместе.
Прошли какие-то минуты, и он вышел. И казалось мне, что он преобразился: белоснежная холщовая рубашка дополнила и как бы осветила его прекрасный облик. "Ну вот мы и пошли", — услышал я, увлекаемый его волей, стесненно чувствуя его руку, коснувшуюся меня чуть пониже плеч. И он, и я шли, занятые своими мыслями, уже соглашаясь и как бы не сожалея, что вот-вот должны были расстаться.