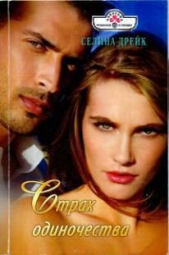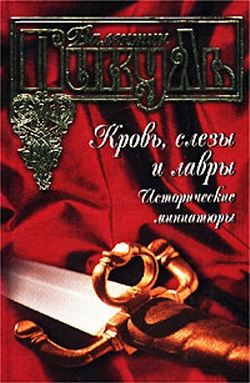Записки баловня судьбы
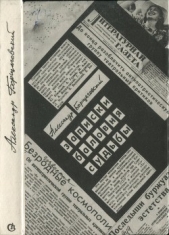
Записки баловня судьбы читать книгу онлайн
Главная тема книги — попытка на основе документов реконструировать трагический период нашей истории, который в конце сороковых годов именовался «борьбой с буржуазным космополитизмом». Множество фактов истории и литературной жизни нашей страны раскрываются перед читателями: убийство Михоэлса и обстоятельства вокруг него, судьба журнала «Литературный критик», разгон партийной организации Московского отделения СП РСФСР после встреч Хрущева с интеллигенцией…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Старались нам помочь и те авторы, кто в два года моего завлитства в ЦТКА дебютировали на его сцене: А. Барянов, А Кузнецов, Ю. Чепурин и другие. Предал только один, и предательство его отозвалось горечью и болью.
В 1948 году в редакцию «Нового мира» прислал из Берлина рукопись нового романа Вадим Собко. Добрые отношения существовали у нас еще в Харькове в 1932—34 гг., затем в Киеве до начала войны. Война разбросала нас, кое-что я о нем знал, но его проза какого проходила мимо меня. Он и на костылях, потеряв ногу, продолжал армейскую службу в Берлине, много писал и новый роман прислал на мое имя [28]. Роман оказался откровенно слабым, и я не мог предложить его редакции. Вместе с тем внутри сюжета, как это иной раз случается, «ворочалась», подавала голос пьеса, — откровенная мелодрама, но, может быть, при сильной писательской руке, способная стать и настоящей драмой. Я обо всем этом напрямик, откровенно написал Собко, набросав возможный план пьесы.
Сначала пришло благодарственное письмо, пусть и с осадком горечи, а скоро (и слишком скоро) пьеса на русском языке — «За вторым фронтом». Пьесу театр не принял; режиссеры ЦТКА один за другим возвращали рукопись — молча, защитно подняв руки: мол, увольте. Нанес удар и Главрепертком, запретив посланную туда по просьбе Вадима Собко пьесу.
Шел сезон 1948/49 года. Сыграть пьесу Собко можно было до весны 1949 года или никогда — минет год, о пьесе забудут, не захотят к ней возвращаться. А я, читавший роман, долго обдумывавший этот сюжет, посвятил Алексея Дмитриевича и режиссерскую коллегию в план переделки и попросил генерала Пашу́ вызвать через ГЛАВПУР в Москву Вадима Собко, за ноябрь и часть декабря 1948 года он справился бы с доработкой. В Берлин ушла телеграмма, а ночью раздался междугородный звонок. Звонил Собко. «Дорогой Шура, я на носилках, — сказал он. — Меня поднесли к телефону… Приехать не смогу: упал и сломал руку. Со сломанной рукой на костылях не двинешься». Я рассказал ему о задуманном плане переделки пьесы, — может быть, в Берлине он продиктует необходимое. Выслушав меня, он вдруг сказал: «Делай все сам, прошу тебя и благословляю… Сделай, я приеду и пройдусь по тексту… Будь другом».
И в самый разгар фадеевских экзекуций 1948-го я сел за переделку пьесы, а заодно и за ее перевод: русский текст пьесы был скуден, я надеялся — и напрасно! — что в украинском оригинале отыщутся какие-то ускользнувшие, поблекшие при переводе краски. В. Собко принадлежал к той части украинских литераторов, для которых глубинные богатства родного языка были как бы за семью печатями. Русская проза тоже прошла через десятилетия языковой бедности, нивелировки, оскудения, доходившего до немоты, не сразу вернулась к ней полнозвучность слова, которую явили нам лучшие из писателей-«деревенщиков» или такие художники, как Ю. Казаков, Ф. Искандер или Ю. Трифонов. Оскудение правды, как правило, приводило к оскудению речи.
В украинской прозе регресс был особенно заметен. Читая украинские романы Вадима Собко, нельзя было поручиться за то, что автор мыслит на родном языке; и словарь, и конструкция фразы, «организация» речи — все было до опасного предела приближено к русскому письму. Это именно та украинская речь, которая дает повод русскому обывателю утверждать, что он решительно все понимает и не надо его дурачить, нет никакого особенного, отдельного украинского языка. Дайте такому читателю для пробы страницу Юрия Яновского, М. Коцюбинского, не говоря уже о В. Стефанике или О. Кобылянской, дайте ему любую главу из «Маруси Чурай» Лины Костенко или какое-нибудь стихотворение позднего Л. Первомайского, и он призна́ется, что не понял прочитанного.
В украинском тексте пьесы Собко я новых богатств и красок не нашел, мой перевод пьесы заключался в посильном обогащении речи, в купюрах там, где пробалтывалось то, что должно стать открытием самого́ мыслящего зрителя. Но я еще и переделал пьесу, переписал ряд сцен, написал новые, ввел в пьесу и новых персонажей. Все материалы и рукописи до сих пор хранятся у меня. Взгляд на пьесу и Алексея Попова и режиссуры театра изменился после читки нового варианта на труппе. Ее включили в репертуар. В середине января 1949 года текст был снова сдан в Главрепертком и в Управление театров Комитета по делам искусств. Вл. Пименов, начальник Управления театров, через неделю позвонил, предложив мне договор на перевод пьесы. Я от договора отказался, объяснил Пименову, что не заключил договора и с ЦТКА и могу принять единственную плату, ту, что положена переводчику за сыгранные уже спектакли, где бы они ни игрались. Но ни с Управлением, ни со своим театром договоров заключать не хочу.
Поступил бы я так, зная, что прочту о себе в статье «Об одной антипатриотической группе театральных критиков»? Надеюсь, что держался бы точно так же.
Репетиции шли вовсю, когда ударил колокол «космополитизма». Но на следующий день после статьи в «Правде» меня пригласил А. Сегеди на Неглинную в Главрепертком и демонстративно поставил — 30 января 1949 года — разрешительный штамп на пьесе в моем переводе, сказав, что делает это не сгоряча и не по ошибке, а сознательно и поддержит меня во всем, что касается судьбы этой работы.
Уже шли генеральные репетиции, просмотры, режиссер спектакля Тункель звал меня, я не шел, ждал приглашения от Собко, приехавшего наконец в Москву и жившего в том же доме, что и я, только в гостиничной части здания. Я занес туда новый текст пьесы и ускользнул домой: есть какая-то неловкость в том, что ты побесчинствовал в чужом тексте, пусть и с благословения автора.
Не прошло и часа, как позвонила Вера.
— Шура! Шура! — почти заклинала она. — Мы с Вадимом плачем, я побежала вперед, он ковыляет по коридору на костылях. Великое тебе спасибо! Целу́ю и передаю трубку
Голос Вадима и правда прерывался от волнения:
— Как ты меня выручил! Я на десятках страниц сделал буквально две-три мелкие поправки. Все отлично, Шура. Я тороплюсь в театр, вечером приходи к нам с Лялей…
— Почему ты меня не зовешь на прогоны?
Он ответил непритворно:
— Я был убежден, что ты не пойдешь. Не хотел ставить тебя в неловкое положение.
— Напрасно. У меня добрые отношения с актерами и режиссерами.
— Извини, я об этом не подумал.
— Вадим, почему исчезло с афиши мое имя?
Собко ответил, не колеблясь:
— Мне звонили в Киев из театра (он из Берлина заехал домой, за Верой), предупредили, что ГЛАВПУР запретит спектакль, если на афише появится твоя фамилия. Ты понимаешь, это — формальность, из-за этого не стоит гробить пьесу…
Я помолчал и, набравшись храбрости, сказал:
— Вот что, Вадим: в моем положении худшее, что может быть, — это дурацкие иллюзии. Я ни о чем не прошу, я хочу знать, как ты решишь наши материальные взаимоотношения, как…
— Ты меня обижаешь! — перебил он меня. — Я-то знаю, что ты сделал для пьесы, от самого ее замысла и до переделок. Я дам все распоряжения в Управление по охране авторских прав, все оформится лучшим образом. Это мой долг.
На следующее утро в Москву приехал Виктор Некрасов и с вокзала к нам — привез три тысячи рублей (разумеется, старых, «дореформенных»). Вечером он пришел снова, сказал, что встретил в УОАПе Вадима Собко.
— Как у тебя определились с ним отношения? — спросил у меня Виктор.
Собко в УОАПе! Сдержал слово; не дождавшись премьеры, поспешил улаживать наше дело: если пьеса пойдет по стране, весь гонорар будет начисляться автору («перевод автора»!), выделение какой-то суммы для меня теперь может быть сделано только его письменным поручением. Отныне я завишу от его честности и щедрости! Переводчику положена третья часть гонорара, но можно понизить ее до 25 %. Все теперь в его руках.
Пьеса пошла небывало широко. Из семи премьер-дебютов советских драматургов за два неполных сезона моей работы в ЦТКА две пьесы имели необыкновенный кассовый успех: «На той стороне» А. Барянова и «За вторым фронтом» В. Собко. Пьеса Барянова долго держалась на сцене ЦТКА, «За вторым фронтом» — сошла быстро, Алексей Дмитриевич Попов внутренне вновь отринул пьесу, но более того — автора. По стране пьеса распространялась со скоростью лесного пожара; театры все еще испытывали жестокий репертуарный голод, вызванный массовым запрещением пьес…