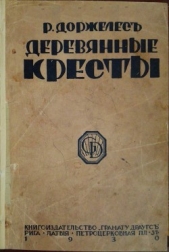Жизнь Никитина

Жизнь Никитина читать книгу онлайн
Владимир Александрович Кораблинов (1906—1989) известен читателям как патриот своего Воронежского края. Не случаен тот факт, что почти все написанное им – романы, повести, рассказы, стихи – обращено к событиям, произошедшим на воронежской земле. Однако это не узко краеведческая литература. События, описываемые в его произведениях, характерны для всей России, нашей великой Родины.
Романы «Жизнь Кольцова» и «Жизнь Никитина» также рассказывают о людях, которыми гордится каждый русский человек. Они – о жизни и вдохновенном творчестве замечательных народных поэтов, наших земляков А. В. Кольцова и И. С. Никитина.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Да вот – вопрос.
– Но кто же? Кто? Ведь это кто-то из наших, значит… Фу, какая мерзость!
Покраснел, закашлялся.
– Э, что там… успокойтесь, дело прошлое, – сказал Второв. – Вопрос, конечно, небезынтересный – кто? Ну да оставим это. Я хотел рассказать о нашем разговоре с графом.
– Да, да, простите, пожалуйста! Что же?
– Обрушился божьей грозою, перстом помавал перед носом… Но вдруг как-то обмяк и этак даже словно обиженно: «Я, говорит, дражайший Николай Иваныч, на ваше благоразумие уповал, на немалый чин ваш и высокое положение… Ведь коли ежели господа статские советники занялись нынче тайным экспедированием запретной литературы, так чего же от менее чиновных особ прикажете ожидать-с!»
– Эк он вас поддел статским-то советником! – засмеялся Никитин.
– Да нет, вы дальше послушайте! «Делайте, говорит, что вам угодно-с, но воронежцев оставьте в покое!» – «Помилуйте, граф, каких воронежцев?» Тогда – слушайте, слушайте! – тогда он ко мне наклонился и чуть ли не на ухо прошептал: «Никитина, сударь, Никитина мне не совращайте!»
Второв откинулся на спинку кресла и весело засмеялся.
– «Мне»! А? Как вам это нравится?
– Ну, знаете ли! – только и мог вымолвить Иван Савич.
Никитину постелили в кабинете на широком кожаном диване. Сон долго не шел к нему: непривычно светлая, призрачная ночь глядела в высокие окна. Какой-то глухой, неопределенный шум все время, не переставая, назойливо слышался за стеной, на улице.
И все мнилось, будто пол подрагивает и колеса стучат по железным рельсам, стучат, постукивают: «вот так-так! вот так-так!»
И граф с указующим перстом укорял, шипел: «Не совращайте Никитина!»
И так, заснув, когда уже совсем рассвело, когда за окнами задребезжали извозчичьи пролетки и в доме захлопали двери, Иван Савич неожиданно для себя проспал до десяти часов, чего, кажется, с ним отродясь не случалось.
Прозой, коммерческой, расчетливой прозой, холодом и равнодушием дохнуло на него, когда он прошелся по улицам Петербурга.
«Оград узор чугунный»… «Кумир на бронзовом коне»… «Юный град, полнощных стран краса и диво»… Все это, видимо, где-то в воронежских мечтах существовало, в литературных восторгах, в поэтическом воображении. Неумолимая же действительность показывала Петербург довольно пыльным, душным и удивительно бесцветным городом, которому в высшей степени свойственны были скучная рассудительность и ледяное бессердечие.
Москва – та прямо на улице чай хлебала, горланила, безобразничала, сквернословила, но в ней таилась великая русская душа, дивная сказка – Кремль, золоченые шлемы соборов, родной российский, певучий говорок.
Вопреки пословице, она, матушка, верила и сочувствовала слезам, она и сама могла всплакнуть в минуту задушевной откровенности…
А тут – все жило в камне сером, гладко отесанном, несокрушимом, которому были безразличны людские горести, людская нужда, сами люди были безразличны.
И все существовало раздельно: камень – сам по себе, люди – сами по себе.
И то, что сразу, в первое же мгновение неприятно поразило Ивана Савича – какая-то настороженная, неприязненная подозрительность города с его бесчисленными полосатыми будками и полицейскими стражниками, – так и осталось во все дни его пребывания в Петербурге.
Проходя мимо прославленного Фальконетова Всадника, Иван Савич останавливался, завороженный великим творением гения, обширным видом могучей реки, туманной далью Васильевского острова. Пушкинские строки волшебно звучали, казалось, что – вот еще немного – и пушкинские чары возьмут верх, осилят и непонятный таинственный город раскроет свои объятья… Но из-за гранитного постамента, словно дух из бездны, появлялся усатый полицейский будошник, медленно приближался, сверлил пронзительным взором, как бы пытая: кто? зачем? по какому делу? и прописан ли в части? И Пушкин отступал перед будошником, рассеивалось минутное очарованье, и снова перед Иваном Савичем был камень, равнодушие, отчужденность.
А кроме того, и дел оказывалось пропасть.
С утра до вечера он пропадал в пыльных и затхлых торговых помещениях книжных складов и магазинов, отбирая товар, торгуясь с приказчиками, присматриваясь зорко к образцовому порядку, заведенному в некоторых столичных лавках.
Из всех магазинов его особенно привлекал смирдинский.
Старика Смирдина, того знаменитого Смирдина, который запросто говаривал с Пушкиным, уже не было в живых; в лавке хозяйничал его сын, помнивший Пушкина смутно. Но что из того, если здесь все говорило о нем: стены, видевшие его, книжные полки, на которых он рылся, отполированная до блеска локтями дубовая крышка прилавка, на который и он опирался не раз…
В эту самую дверь он входил, и так же звенел колокольчик дверной; на этом стуле он сиживал; не в эту ли бронзовую чернильницу обмакивал он перо, изящным косым почерком набрасывая расписку в получении авторских денег? «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать…»
И так же, как и при нем, в широких окнах магазина мерцало неяркое петербургское небо и стройным полукружием чернела насупротив величественная колоннада Казанского собора.
У Смирдина Иван Савич закупил новейшую литературу – «Обломова», «Губернские очерки» и самую последнюю новинку – «Накануне». У Исакова – французские книги, у Грефа – учебники. Крашенинников прельстил удешевленными ценами, однако, на поверку, дешевизна оказалась сомнительной. Наконец надо было зайти к Сеньковскому и, помимо дел торговых, отблагодарить его за присылку «милейшего» Чиадрова.
Господин Сеньковский не понравился Никитину: юркий, с черными, как башмачные пуговки, глазками, преувеличенно любезный до слащавости, он показался Ивану Савичу хитрейшим и прожженнейшим дельцом. Его библиотека при магазине была предприятием откровенно коммерческим. На высказанную Никитиным мысль об издании дешевых книжек для народа, бродячих торговцах-офенях господин Сеньковский только приятно улыбнулся. «Ох, уж эти мне провинциальные идеалисты!» – говорила его улыбка.
– Помилуйте, батюшка, – сказал он, – да для чего же нашему мужику Пушкин? Ему «Битву с кабардинцами» подавай да «Чуркина-атамана», а Пушкин для него – вздор, ей-богу, вздор-с!
«Нет, видно, тебя не прошибешь!» – подумал Иван Савич. Прощаясь, он напомнил Сеньковскому о Чиадрове.
– А что такое-с? – насторожился Сеньковский. – Впрочем, – как-то странно улыбнулся он, – вы, верно, еще не все качества господина Чиадрова знаете.
– Какие качества! Ленив, малограмотен, совершенная пешка…
– Нет, нет, – уверял Сеньковский. – Как честный человек, говорю – прекрасные качества!
Расстались довольно холодно.
Вот так и летели петербургские дни, какие-то невероятно одинаковые – с утомительной беготней, с торговыми хлопотами, с постоянной боязнью ошибиться, переплатить, попасть впросак в хитрых расчетах с книгопродавцами. И лишь вечера в уютной гостиной Второва были как островки в бурном океане петербургской жизни.
Есть люди, существование которых невозможно представить в стороне от текущего дня, вне постоянной разумной и полезной деятельности; куда бы и в какие условия ни ставила их жизнь, они тотчас оказывались в самой гуще событий и всегда на том месте, на каком могли приносить наибольшую пользу человечеству. К таким людям и принадлежал и Николай Иваныч. Где бы он ни был, всегда вокруг него создавалась атмосфера горячей заинтересованности в делах быстротекущего дня и всегда собирался кружок, в котором живо обсуждались острейшие вопросы, поставленные перед обществом самой жизнью.
В тысяча восемьсот шестидесятом году таким вопросом был вопрос об освобождении двадцати миллионов русских крестьян от многовекового крепостного рабства. И с чего бы ни начинался разговор: о последней ли книжке «Современника», о железных ли дорогах, о гражданской ли войне в Америке – он неизменно сворачивал на предстоящую реформу.