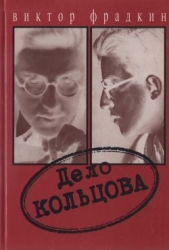Жизнь Кольцова

Жизнь Кольцова читать книгу онлайн
Владимир Александрович Кораблинов (1906—1989) известен читателям как патриот своего Воронежского края. Не случаен тот факт, что почти все написанное им – романы, повести, рассказы, стихи – обращено к событиям, произошедшим на воронежской земле. Однако это не узко краеведческая литература. События, описываемые в его произведениях, характерны для всей России, нашей великой Родины.
Романы «Жизнь Кольцова» и «Жизнь Никитина» также рассказывают о людях, которыми гордится каждый русский человек. Они – о жизни и вдохновенном творчестве замечательных народных поэтов, наших земляков А. В. Кольцова и И. С. Никитина.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
3
У Венецианова были гости.
Один – с длинными волнистыми, чуть рыжеватыми волосами и крошечной бородкой, франтовато и дорого, но небрежно одетый, очень подвижной; другой – нескладный, судя по землистому цвету лица и довольно поношенному сюртуку, близко знакомый с нуждой, забавно мешавший в разговоре русскую речь с украинской.
Венецианов обнял Кольцова и представил его гостям. Франт оказался Брюлловым, нескладный – художником Сошенко.
– Ну что, Алексей Гаврилыч, были? – поздоровавшись, спросил Жуковский.
– Был! И очень даже был! – воскликнул Венецианов. – Уперся, да и только. Две тысячи – и говорить не желает…
– Який немец зловредный, хай ему! – Сошенко стукнул кулаком по ладони. – Уразумел, бисов сын, яким хлопцем володие…
– Понял, проклятая сосиска, – раздраженно сказал Венецианов, – раз этакую цену заламывает…
Алексей с недоумением поглядывал то на того, то на другого: что за немец? какие две тысячи?
– Да расскажите же, – не выдержал наконец, – что тут у вас делается? Слушаю, слушаю, а в толк никак не возьму!
– Ах, прелесть ты моя! – спохватился Венецианов. – Тут, брат, история прегорькая… Кащей-немец рабом владеет, а тот раб – художник гениальный. Вот, милый, все мы, сколько нас тут ни есть, ломаем бедные головы: как бы нашего Тараса от того немца избавить… Да где же те две тысячи, какие помещик за своего раба запросил. Ох, рабство! Ох, лютый зверь, да когда ж мы над твоим прахом попируем?!
– Друзья, – сказал Жуковский, – коли мы не сделаем, то кто же? У меня мелькнула заманчивая мысль. Правду сказать, все это довольно сложно, однако…
– Ну, не томи, не томи, голубчик, – простонал Венецианов.
– …однако вполне вещественно, – закончил Жуковский. – Карл Павлыч, скажите, дорогой, сколько вам платят за портрет?
Брюллов удивленно взглянул на Жуковского.
– Да так… – пожал плечами. – Тысячу, скажем, и две даже. А-а, понимаю! Только у меня на беду нет ни одного заказа, сам сижу без гроша…
– А ежели бы я доставил вам такой заказ?
– Вы, верно, шутите?
– Нисколько. Я уже говорил кое с кем из людей влиятельных и… денежных, конечно, – запнувшись, с улыбкой добавил Жуковский. – Тот портрет, что вы напишете, мы разыграем в лотерею и… вы понимаете, господа?
– Мысль действительно прекрасна, – согласился Брюллов, – и я готов хоть завтра начать сеансы… Но кто же будет изображен на портрете?
– Ваш покорный слуга, – поклонился Жуковский. – Как прикажете одеться? Официально или по-домашнему?
– Фрак, я думаю, – прищурился Брюллов. – Просто и строго.
– Но со звездой! Обязательно! Ах, Алексей Васильич, – Венецианов вытер платком глаза, – вот ведь люди, гляди, а? С этакими людьми жить и жить хочется!
4
Дела в Сенате устраивались хорошо. Слово Жуковского действовало, как магическая палочка. В первых числах марта можно было бы ехать в Москву, чего Кольцов очень хотел, – там были друзья: Белинский, Боткин, Аксаковы – весь собор, как называл Кольцов кружок Белинского. А в Питере, хоть все и были добры к нему, да постоянно в памяти жила мысль: тут убили Пушкина. Не раз приходил к его дому, глядел на окна, плотно завешенные шторами, бесконечно вспоминая свои встречи с ним, его слова, его дружескую белозубую улыбку.
Однако ехать было нельзя: Сребрянскому стало хуже, и лекарь сказал, что он не только до двора, а и до Москвы не доедет. Пришлось оставить мечту об отъезде и ждать поправки Андрея.
Питерские издатели – Воейков, Краевский, Владиславлев, Плетнев – все просили стихов, и Кольцов, не желая кого-нибудь из них обидеть, давал всем. Они охотно брали стихи, однако никто не платил, да он и сам не думал о плате: продавать свои песни за деньги казалось ему обидным и грязным делом.
Милее всех ему были Панаев и Венецианов, и он чаще, чем с остальными литераторами, виделся с ними. В их разговорах, в обращении не чувствовалось ненавистного петербургского холодка. Всегда восторженный добряк Венецианов возил его в Царское и Петергоф. Фонтаны поразили и очаровали; они были как сказка, услышанная в детстве: «в некотором царстве, в некотором государстве»… Но Царское! Лицей, пруды, статуи… Вечно живой образ смуглого мальчика в тесноватом лицейском мундирчике… «Не се ль Элизиум полнощный»… Алексей глядел и не мог наглядеться.
Дважды они побывали в мастерской Брюллова. Карл Павлович писал Жуковского; портрет был превосходен, певец «Светланы» словно в зеркале отражался: легкий наклон головы, знаменитая плешинка, брильянтовое сиянье ордена… Брюллов обещал закончить работу к апрелю.
– Нет, ты подумай! – Венецианов хлопал по плечу Алексея. – В апреле Тараса нашего вызволим… Экая сила, братец ты мой!
Брюллов показывал Кольцову рисунки Шевченко. Они были необыкновенно талантливы, и дикой, нелепой казалась мысль, что не случись так, как случилось, – и этот талант погиб бы в людской своего недалекого и жестокого господина.
В мастерской Брюллова Алексей встретился с Кукольником. Тот был слегка пьян, кривлялся, бранил Белинского за то, что он не понимает его, и грозился бросить писать по-русски.
– А как же, на каком языке вы станете писать? – спросил Кольцов.
– Натурально, на итальянском! Язык богов, вечной красоты…
– Будет врать-то, – одернул его Брюллов. – Экой еще Петрарка нашелся…
Кукольник обиделся и, покривлявшись еще немного, уехал. С Кольцовым, однако, был ласков, пригласил к себе на «среду»: по средам у него собирались литераторы.
Алексей пошел и пожалел – в кукольниковской гостиной толокся сброд: чиновники, генералы, какие-то наглые молодые люди – поклонники. Хозяин важничал, врал напропалую, гости много пили, шум стоял немыслимый.
– Ба! Алексей Васильич! И вы в этот вертеп пожаловали?
Кольцов обернулся, увидел Панаева и обрадовался ему.
– Вот хорошо-то, – сказал, здороваясь. – Все свой человек, а то я уже поглядывал, как бы стрекача задать…
– Что ж так?
– Да больно уж народец пестрый, прямо ярманка!
– А тут всегда так, вы не обращайте внимания. Идемте, я вам питерского Иуду покажу…
Панаев взял под руку Кольцова и прошел с ним в кабинет хозяина. Здесь было накурено до темноты. В глубоком кожаном кресле сидел, развалясь, кентавр в генеральских эполетах. В прическе с височками, в баках, в презрительно выпяченной губе – во всем чувствовалось желание подражать государю. Возле генерала, кланяясь и подобострастно заглядывая в глаза, юлил невысокий обрюзгший лысоватый господин во фраке, с орденской ленточкой.
– Да, брат Булгарин, – сквозь зубы, как бы нехотя, говорил генерал. – Эти ваши новейшие искусства… пошлость одна. Ничего возвышенного, все так мизерно…
– Так точно, ваше высокопревосходительство! – кланялся Булгарин. – Вот именно, мизерно-с, как вы изволили выразиться!
– Намедни в оперу ездил, – продолжал кентавр. – Подняли занавес, гляжу: мужики! Странно, композитор Глинка – дворянин, что же это, а? Уже и дворяне на холопской балалайке стали играть, а, Булгарин?
Булгарин сокрушенно помотал головой:
– И не говорите, вашесство!
– Но музыка, – цедил генерал, – где же музыка, а, Булгарин?
– Какая музыка, вашесство! Так, бренчат.
– Да нет, помилуй! – Генерал выпятил грудь и пошевелил пальцами. – Помилуй, Булгарин, что бренчат! Это трактир, где извозчики чай пьют!
– Вот именно, трактир-с! – восхитился Булгарин.
– Так надобно запретить эту музыку! – Генерал сделал жест, обозначающий запрещение. – Запретить! И внушить автору, чтобы он… ну, другую написал, что ли… Дать, наконец, ему европейские образцы!
– Так точно, вашесство, вот именно: запретить и дать образцы. Я уже писал об этом, вашесство!
– И что же?
– Не запрещают. Ведь сейчас в искусстве-то в русском – кто? Все так, кто-нибудь, из мужиков даже имеются, а благородного звания, почитай, что и нету-с… Ведь вон, – Булгарин совсем прилип к генеральской эполете, – вон ведь у них кто в литературе коноводит сейчас? Белинский, вашесство! Дебошир, санкюлот, пьяница, вашесство!