Бродский: Русский поэт
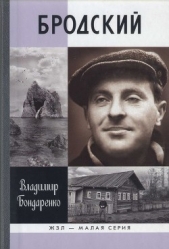
Бродский: Русский поэт читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А если я откажусь? — спрашиваю. Полковник на это: тогда для тебя наступят горячие денечки.
Я три раза сидел в тюрьме. Два раза в психушке… и всем, чему можно было научиться в этих университетах, овладел сполна. Хорошо, говорю. Где эти бумаги? <…> Это было в пятницу вечером. В понедельник снова звонок: прошу зайти и сдать паспорт. Потом началась торговля — когда выезд. Я не хотел ехать сразу же. А они на это: у тебя ведь нет уже паспорта».
Через три недели после звонка из ОВИРа, 4 июня 1972 года, Иосиф Бродский вылетел из аэропорта Пулково в Вену. В день отъезда он и послал Леониду Брежневу письмо, где писал о своей принадлежности к русской литературе, которую невозможно куда-то выслать. Он был по-настоящему растерян, ибо не знал, что его там, за чертой, ждет. Что случится с его поэзией?
В венском аэропорту его ждал глава издательства «Ардис» Карл Проффер, а уже через день он с Проффером ехал на встречу с великим англо-американским поэтом Уистеном Хью Оденом. Большой дружбы не получилось, да и Оден был уже не в той форме: это была, скорее, встреча двух поколений, двух поэтик, двух великих культур. Общение со своим поэтическим кумиром смягчило для Бродского контраст от перемещения в другой мир, в другую цивилизацию. Впрочем, его английский был еще недостаточно хорош, и потому он больше слушал Одена, чем говорил. Слушал, наблюдал, задавал короткие вопросы. Вместе с Оденом он вылетел из Вены в Лондон на международный поэтический фестиваль в июле 1972 года. В письме своему другу и будущему биографу Льву Лосеву Бродский не без восхищения пишет о своих впечатлениях от встреч с Оденом:
«Первый martini dry [сухой мартини — коктейль из джина и вермута] W. H. Auden выпивает в 7.30 утра, после чего разбирает почту и читает газету, заливая это дело смесью sherry [хереса] и scotch ’а [шотландского виски]. Потом имеет место breakfast [завтрак], неважно из чего состоящий, но обрамленный местным — pink and white [розовым и белым] (не помню очередности) сухим. Потом он приступает к работе и — наверно потому, что пишет шариковой ручкой — на столе вместо чернильницы красуется убывающая по мере творческого процесса bottle [бутылка] или сап (банка) Guinnes’а, т. е. черного Irish [ирландского] пива. Потом наступает ланч — 1 часа дня. В зависимости от меню, он декорируется тем или иным петушиным хвостом (Imean cocktail [я имею в виду коктейль]). После ланча — творческий сон, и это, по-моему, единственное сухое время суток. Проснувшись, он меняет вкус во рту с помощью 2-го martini-dry и приступает к работе (introductions, essays, verses, letters and so on [предисловия, эссе, стихотворения, письма и т. д.]), прихлебывая все время scotch со льдом из запотевшего фужера. Или бренди. К обеду, который здесь происходит в 7–8 вечера, он уже совершенно хорош, и тут уж идет, как правило, какое-нибудь пожилое chateau d’… [„шато де…“, то есть хорошее французское вино]. Спать он отправляется — железно в 9 вечера.
За 4 недели нашего общения он ни разу не изменил заведенному порядку; даже в самолете из Вены в Лондон, где в течение полутора часов засасывал водку с тоником, решая немецкий кроссворд в австрийской Die Presse, украшенной моей Jewish mug [жидовской мордой]».
Сама судьба повернулась к нему лицом и помогла бережно перевернуть страницу его жизни. Карл Проффер сразу же предложил Бродскому поработать в США, в Мичиганском университете в качестве «поэта-в-присутствии», вести своего рода творческую мастерскую для любителей поэзии. Эта неутомительная работа давала возможность поездить с выступлениями по разным городам Америки. Тогда Бродский жил недалеко от Детройта, в Энн-Арборе, откуда ездил к своим студентам в Мичиганский университет. Читал студентам стихи Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама и разбирал их по строчкам. Те, кто ценил поэзию, внимали ему, остальные отсиживались или занимались своими делами. Заодно он исколесил весь Североамериканский континент, включая Мексику. Охотно ездил с выступлениями и по Европе, подолгу задерживаясь в Париже, Лондоне, Дублине, Риме, Амстердаме, Венеции. Он с жадностью неофита открывал для себя весь мир.
Да, в западном мире ему с самого начала эмиграции сопутствовало небывалое везение, которое никак нельзя объяснить ни его еврейством (мало ли еврейских эмигрантов, и даже вполне талантливых, приезжало в те годы в Америку), ни даже его талантом (увы, немало больших талантов получали признание уже после своей смерти). В русской литературной эмиграции «третьей волны» он очень быстро стал первой величиной. Даже из старшего поколения такую же известность снискали, пожалуй, лишь Александр Солженицын и Владимир Набоков, более никто. Хватало и завистников, которые непрерывно писали о «мафии Бродского», нацеленной на Нобелевскую премию, о его умелой организации своей ссылки на Север и своего изгнания или же о его поддержке всем мировым еврейством. По-моему, завистники первыми и напророчили Иосифу Бродскому Нобелевскую премию. Но почему не Науму Коржавину, тоже незаурядному поэту? Почему не Василию Аксенову? Почему не Сергею Довлатову или Юзу Алешковскому?
И книги у него новые выходили, и в жизни всё обустраивалось: в 1981 году он из тихого Энн-Арбора переехал в Нью-Йорк, на уже широко известную всем бродсковедам Мортон-стрит, небольшую тихую улочку в западной части Гринвич-Виллидж. За все американские годы он поработал в шести университетах, в том числе в Нью-Йоркском и Колумбийском. В должной мере обеспечив себя грантами, а особенно после получения «премии гениев» в 1981 году, он смог оставить преподавательскую работу и целиком отдаться стихам, чтению, путешествиям — трем вещам, которые увлекали его, пожалуй, в равной мере.
Поразительно, что шквал критики в его адрес раздавался в те годы не из Советского Союза, где о нем молчали, а из самых либеральных эмигрантских кругов. Одни литераторы были недовольны тем, что Бродский отстраняется от активного антисоветизма и прямо заявляет, что не намерен в чем-то обвинять свою родину. Другие были уверены, что он работает на КГБ — иначе почему его так легко отпустили сперва из ссылки, а потом и из страны? Не удержались от травли поэта ни Лев Наврозов, ни Наум Коржавин, ни Эдуард Лимонов, ни даже художник Михаил Шемякин, который написал, что поэзия Иосифа Бродского «рассчитана на то, что ее прочтут „люди с Литейного и с Лубянки“, поймут и оценят, какой вы хороший». Так и возникли известные стихи «Меня упрекали во всем, окромя погоды…», направленные отнюдь не в адрес Кремля.
Сегодня же, наоборот, в тех же эмигрантских либеральных кругах преувеличивают его антагонизм с властью, чуть ли не боязнь мести советских карательных органов, уверяют в его вечной нелюбви к России. К примеру, некий Виктор Финкель пишет в «Новом русском слове»: «Это чувство преследуемого сохранилось в Поэте навсегда, даже много лет спустя в спокойной обстановке 1987 года („Чем больше черных глаз, тем больше переносиц…“), в условиях жизни признанного и ни от кого не зависящего мэтра поэзии. Вероятно, в глубине души он сохранил ощущение загнанности, настороженной затравленности… Добавьте сюда и то, что он всегда допускал возможность сведения с ним счетов тоталитарным монстром, проигравшим схватку вчистую и способным послать ликвидаторов».
Прямо детектив какой-то, абсолютно ни на чем не основанный! Конечно, в разные годы Бродский высказывал немало скептических мыслей по поводу событий в России — как, впрочем, и в других странах. Но делать из него отчаянного русофоба на этом основании могут или закосневшие в ненависти к России русскоязычные эмигранты, или такие же радикальные ура-патриоты. И те и другие не останавливаются перед передергиваниями и умалчиваниями, но человек непредвзятый, не склонный к наклеиванию ярлыков, отдаст должное независимости взглядов и высказываний Бродского. По своей жизни, особенно в начале эмиграции, после пересечения черты между прежней и новой жизнью, он был гораздо более путаный, непоследовательный и противоречивый человек, отстаивающий прежде всего свою личность, право на собственную точку зрения. Сводить всё его творчество — и любовные элегии (к примеру, «Прощайте, мадемуазель Вероника»), и обращения к античности, к Тезеям и Минотаврам — к мнимому отторжению от России, к разрыву со своим прошлым просто нелепо и неграмотно. Пожалуй, если всерьез, то, на мой взгляд, все претензии к покинутой отчизне, да еще учитывая невольную тягу любого эмигранта к самооправданию, он высказал в стихотворении «Пятая годовщина», написанном к пятилетию отъезда из России. Но, с другой стороны, если бы Россия для него уже ничего не значила, разве стал бы он вспоминать каждый год прощание с ней, отмечать эту печальную годовщину?

![Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском [с иллюстрациями]](/uploads/posts/books/125908/125908.jpg)





















