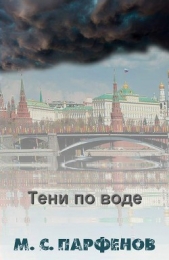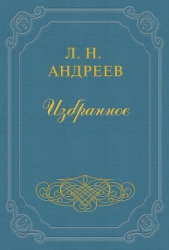Записки писателя

Записки писателя читать книгу онлайн
«Записки писателя» — уникальный исторический и литературный документ, правдиво повествующий о жизни отечественной культуры на рубеже XIX–XX столетий: открытие памятника А. С. Пушкину в Москве в 1880 году; артистическая и литературная Москва 90-х, издательства и издатели, литературные кружки и писатели. Отдельные статьи сборника посвящены А. П. Чехову, М. Горькому, Л. Андрееву, Н. Златовратскому, Д. Мамину-Сибиряку.
Статьи «Старые годы Малого театра» и «Начало художественного театра» свидетельствуют о работах знаменитых режиссеров, актеров и актрис: Медведевой, Акимовой, Рыкаловой, Федотовой, Ермоловой, Макшеева, Музиль, Ленского, Южина, Правдина, Садовского, Станиславского, Немировича-Данченко, Москвина.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Таков был дебют Горького в качестве драматурга.
Сложнее дело обстояло со «святыми отцами» — митрополитом московским Владимиром, митрополитом петербургским Антонием, с экзархом Грузии, со святейшим Синодом; здесь действовали без церемоний, путем доносов. Известен донос Ширинского-Шихматова на то, что в пьесе Леонида Андреева «Анатэма» под именем Лейзера изображен Христос, и пьеса была моментально снята на тридцать седьмом представлении. Но самым нелепым поводом к запрещению пьесы был донос на постановку «Ганнеле», доведенной уже до генеральной репетиции; изготовлены были декорации и костюмы, приглашен оркестр, написана Симоном специально для спектакля музыка, и вдруг — запрещение. Пьеса шла раньше в Обществе искусства и литературы по тому же самому тексту в переводе того же Лентовского, режиссировал тот же Станиславский, и никаких придирок не было. Что же могло случиться? Случилось, что какой-то набожной старухе приснился сон и было «видение», будто в названной пьесе на Художественном театре поносят господа бога и ангелов заставляют плясать. Этого «видения» было, конечно, вполне достаточно, чтобы возмущенный митрополит Владимир с безграмотным подметным письмом в руках потребовал от генерал-губернатора немедленного запрета кощунственной пьесы. Напрасно ездили Станиславский и Немирович-Данченко к митрополиту доказывать всю вздорность доноса. Пьесу не спасли, и положение театра стало критическим: кроме «Федора», делавшего сборы, дела шли в первые недели плохо. Все надежды возлагались только на «Ганнеле», так как следующей постановкой готовилась «Чайка» Чехова, на которую, однако, не надеялись в смысле сборов, и гибель вполне подготовленной пьесы грозила самому существованию театра.
Запрещение «Ганнеле» в корне подрывало дальнейшие возможности вести дело. Хотя на «Чайку» надежд практического характера и не возлагалось, однако все понимали, что от успеха или неуспеха ее зависит теперь все будущее. Петербургский провал пьесы не привлекал к ней публики; кроме того, боялись, что в случае неуспеха новая обида тяжело отразится на здоровье Чехова, и без того серьезно больного. С чувством большой ответственности и перед автором и перед будущностью театра приступили к этому спектаклю, Твердо веря, однако, в то новое, что давала никем не понятая пьеса, веря в то, что хотел сказать этой пьесой сам театр, и дорожа этим новым, в великом волнении за судьбу пьесы, за судьбу автора и за собственную судьбу раздвинули, наконец, перед публикой серый занавес, за которым горсть молодежи, недавних учеников и недавних «любителей», мужественно повела защиту всех этих судеб, одинаково дорогих театру, опрокидывая предвзятые мнения и шаг за шагом покоряя сердца, вызывая чистые волнения и те драгоценные слезы, которые может вызвать только возвышающее человека истинное искусство.
Бесконечно прав Станиславский, раскрывающий самую суть подхода к пьесам Чехова, в частности «Чайки». Прелесть этих спектаклей — в том, что не передается словами, а скрыто под ними — или в паузах, или во взглядах актеров, — в изучении их внутреннего чувства. У Чехова в самом бездействии создаваемых им людей таится сложное действие. Ошибаются те, кто играет в пьесах Чехова самую фабулу, скользя по поверхности, наигрывая внешние образы ролей, а не создавая внутренние образы и внутреннюю жизнь. Ошибаются те, кто вообще старается «играть», «представлять». В его пьесах надо «быть», «существовать», идя по глубоко заложенной внутри главной душевной артерии.
Скептики, в изобилии заседавшие на первом представлении «Чайки», не склонные ни к чему новому, вышучивали частые паузы и непривычные для их слуха шумы и звуки, но в конце концов и ими завладевало то властное и невидимое, что называется — настроением. Там, где по театральному шаблону должны выкрикивать и голосить персонажи, их функции выполняют стихии: огонь в камине с потрескиванием дров и ветер за окнами. И в этой замечательной паузе чувствуется нависшая неизбежная драма, которая и разрешается выстрелом за кулисами: «нечем жить». Причина настолько ясна из всего предыдущего, что не требует подтверждений. Весь издерганный юноша, которого с детства гложет неутолимое самолюбие, которому хочется быть чем-то, но ничего у него не выходит; талант его, несомненно имеющийся, мечется, силится быть оригинальным, но пока творит что-то уродливое либо шаблонное. Одиночество среди близких и любимых, легкомыслие матери и непонятное ее влечение к человеку чужому и, наконец, обидный разрыв с горячо любимой девушкой, с чудесной, поэтической, обаятельной «девушкой с озера» — Чайкой, загубленной черствой и нелепой рукой, обостряют всю муку его существования; юноша рвет свои неудачные рукописи и той же отчаянной рукой рвет нить своей ненужной жизни. Вот в этой паузе, с треском дров и воем ветра, всеми чувствовалась нависшая неизбежная драма и слышались рыдания двух молодых загубленных жизней.
Занавес закрылся при гробовом молчании. Артисты пугливо прижались друг к другу и прислушивались к публике, но там тишина, молчание. Значит — провал? Ни звука, ни хлопка.
— Удрученные, мы двинулись за кулисы, — говорили участники этого спектакля. — Кто-то среди нас, женщин, заплакал…
И в этот момент, после молчания, вдруг загремели аплодисменты, бурные, восторженные, почти небывалые; оцепенение миновало, и восторг зрителя вырвался наружу.
Престиж нового театра был спасен.
Декорации Симова, содействующие выявлению сути сцены, которая разыгрывается в их окружении, соответствующие тона и краски, свет и потемки, звуки и шумы, тишина и молчание — все соединялось так, чтобы создать действительно захватывающее настроение. Как только раздвигался занавес, это настроение уже чувствовалось на сцене, проникало в зрительный зал, охватывало присутствующих, и они невольно делались более восприимчивыми, более чуткими; художественное воздействие торжествовало.
Признавая несомненные факты выдающегося успеха театра и привешивая к ним ярлыки, по привычке к регистрации всего на вечные времена, скептики принуждены были объявить Художественный театр сильным в реализме и в историческом быте. Но театр, пока это признание зрело и совершалось, был уже охвачен новым увлечением, по линии фантастики. Да и в дальнейшем происходило то же самое: пока начинали признавать его силу в определенных направлениях, он устремлялся далеко вперед и в сторону от того, что за ним признавали Угнаться за течениями театра было не под силу сторонним людям, подводящим итоги чужих стремлений, уже осуществленных.
Театр ставит «Снегурочку» Островского, увлекаясь не только сказкой, но и совершенно исключительной красотой русского эпоса.
Со сцены повеяло такой очаровательной простотой и красотой, что зрители долго и восторженно рукоплескали режиссеру, и артистам, и молодому дебютанту, еще час тому назад никому не ведомому Качалову, впервые появившемуся перед московской публикой в роли царя Берендея.
— Театр ударился в фантастику, — говорилось вокруг. — Но это последний предел его стремлений, — добавляли скептики. — Уж дальше идти им некуда.
А театр, назло прорицателям, пошел дальше — по линии общественности и протеста.
«Главным зачинателем и создателем общественно-политической линии в нашем театре был Горький».
Так писал и так оценивал Станиславский значение Горького для Художественного театра.
В свою очередь и Горький высоко оценил искусство МХТ и восторженно писал о нем:
«Художественный театр — это так же хорошо и значительно, как Третьяковская галерея, Василий Блаженный и все самое лучшее в Москве. Не любить его — невозможно, не работать для него — преступление…»
И вот театру удалось уговорить Горького, который был уже в то время «властителем дум», написать для МХТ пьесу. Это были «Мещане».
Вторая пьеса его «На дне», или, как она называлась вначале — «На дне жизни», поставленная в Москве в декабре того же 1902 года, прошла с исключительным успехом. Недовольны остались только одни высшие чиновники, открыто шипевшие о петербургских цензорах, дозволивших такую пьесу: