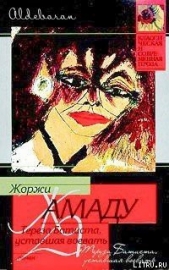Каботажное плаванье<br />Наброски воспоминаний, которые не будут написаны никогда
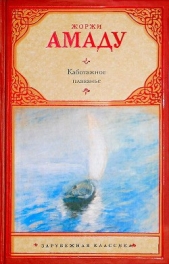
Наброски воспоминаний, которые не будут написаны никогда
Каботажное плаванье
Наброски воспоминаний, которые не будут написаны никогда читать книгу онлайн
Наброски воспоминаний, которые не будут написаны никогда - читать бесплатно онлайн , автор Амаду Жоржи
Необычный автобиографический роман Жоржи Амаду. Роман, слегка приукрашенный национальным «магическим реализмом» и фольклорными мотивами, и в то же время по-настоящему реалистичный.
Детство на фамильной плантации какао и нищая юность в веселом Сан-Сальвадоре де Баия.
Идеалы молодости — и горькое в них разочарование.
Годы эмиграции. Годы дружбы с гениями — Нерудой, Пикассо, Сартром — и многочисленные романы.
Когда Амаду правдив, а когда лукавит, шутит и развлекает?
Обо всем этом в мемуарах знаменитого бразильского писателя, которыми восхищается уже не одно поколение читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
…Когда в кабинет вошла Зелия, я ей сказал: «Твоя подружка дона Флор отколола номер, выкинула коленце, удрала штуку. Кто бы мог подумать!» Кстати, Зелия до сих пор не может мне простить, что в «Габриэле» я не сочетал законным браком Жерузу и Мундиньо Фалкана, а я ей отвечаю, что я не падре и не судья, чтобы женить людей, — этим занимается жизнь, сводя их по любви или по расчету. Роман ограничен во времени и в пространстве, время, отпущенное «Габриэле», подошло к концу, похождения моих героев завершены, а поженятся они или нет, мне знать не дано, ибо это уже за пределами романного пространства. Мне известно лишь то, что было в книге.
Вспоминается мне, как работая над «Лавкой Чудес», рассказывая о том, как разные элементы, сплавясь воедино, создали бразильскую нацию, я захотел было, чтобы сын Педро Аршанжо, Тадеу Каньото, пошел дальше, сделал больше и вообще стал главнее. Я думал, он будет передовым, радикальным, сознательным, тогда во мне еще не были изжиты остатки коммунистического догматизма: странным представлялось, что Педро Аршанжо остался свободен от всех партий и боролся за справедливость сам по себе, на свой страх и риск.
Я начал лепить эту фигуру с натуры, потому и отдал Тадеу в Политехническую школу, заставил писать диплом по математике пятистопным ямбом, ведь именно так поступил его прототип Карлос Маригела. Захотелось мне, чтобы он стал основателем коммунистической партии. Я забыл, что действие романа происходит в 20-е годы, а главное — забыл спросить у Тадеу, а он взял да и отринул всякую идеологию и партийность. Как все цветные и бедные того времени, он хотел быть белым и богатым и пошел не в революционеры, а в зятья к фазендейро, «побелел» и с площади Пелоуриньо перебрался в Корредор-да-Витория. [85] Педро Аршанжо был ходячим исключением из правил — материальные помыслы его не сковывали, он прожил жизнь «бразильцем, баиянцем, бедняком».
Герои учат своих создателей, учат не насиловать реальность, не ломать характеры об колено, не выдумывать умозрительные фигуры, а главное — помнить, что мы не боги, а всего лишь писатели.
Кантон, 1952
Перед тем как отправиться в ресторан, Илья требует, чтобы Дин Лин удовлетворила его любопытство и ответила, какие собаки вкуснее — те, которых специально откармливают в клетках на заднем дворе ресторана, или же бездомные, отловленные на улицах?
Китайский обычай употреблять в пищу собачину — самые изысканные и дорогие блюда готовят из них, и лишь змеиное мясо пользуется такой же славой — в ужас приводит Эренбурга, который любит собак, знает в них толк и всегда держит в доме по нескольку штук: сейчас у него, кажется, три чистокровных миттельшнауцера. Я отлично его понимаю, сам до сих пор не заставил себя отведать конины.
— Так какие же вкусней?
Дин Лин пытается уйти от ответа, сменить тему, заговаривает о других достопримечательных особенностях китайской жизни — о театре, о балете, о цветах лотоса, но Эренбург неумолимо настойчив. Загнанная в угол китайская романистка видит, что выкрутиться не удастся, и цедит сквозь зубы:
— Лично я предпочитаю дворняг.
Фирменное блюдо ресторана, куда он ведет нас, — «утка по-пекински». Истинные гурманы едят лишь до хруста зажаренную корочку, а мясо оставляют. Илья таких изысков не признает: он ест все подряд и с большим аппетитом, и с лоснящихся от жира уст не слетает ни одного слова осуждения. Да и я демонстрирую безмерную широту вкусов, а проще говоря — беззастенчивую всеядность: мы едим уток и свинину, говядину и молочных козлят, так что отвергать собак, лошадей, змею — не более чем предрассудок.
Баия, 1989
Звоню в Рио нейрохирургу Пауло Нимейеру справиться об Алфредо Машадо. Обследования окончены, подтвержден ужасный диагноз — опухоль мозга. Случай трудный, — слышу я в трубке вслед за зловещей латынью, — случай безнадежный. Пауло считает, что операция ничего не даст, он лично не возьмется, но если больной и родственники желают, можно попробовать в Штатах…
Кто же не желает, кто не попробует все возможное и невозможное — от химиотерапии до черной магии, от операций до заклинаний на кандомбле — в борьбе за жизнь?! И Алфредо, которого под руку ведет Глория, улетает в Америку, но тамошние врачи подтверждают заключение бразильского коллеги — операция бессмысленна, надо попробовать новые методы: то-то и то-то, как знать… может быть… Начинаются полеты в Нью-Йорк и обратно в Рио. Алфредо не теряет бодрости и надежды, он неисправимый оптимист. Мы с Зелией звоним ему ежедневно, он сам снимает трубку, рассказывает о своей борьбе, а потом — новый анекдот, об угрозе, о надежде… Надежды с каждым днем все меньше.
Минуло больше года. Смерть Алфредо приблизилась вплотную. Я не мог работать, разучился смеяться, с трудом выдавливал из себя слова, сбежал из Бразилии, чтобы не видеть, как он умирает, мечусь по всему миру, из одного города в другой, из страны в страну — съезды, конференции, семинары, симпозиумы, все что угодно…
И отовсюду — из Парижа, Стамбула, Барселоны, Лиссабона и Рима — звонят друзья в тревоге, в скорби, в надежде на чудо… Чаще всех звонит мне сам Алфредо, и каждый раз я чувствую, что ему все трудней говорить, все длинней делаются паузы, и за сотни километров мне передаются его усталость, его тоска.
Я рассказываю ему, что задумал роман о приключениях молодого бразильца: военная диктатура, хиппи, «Мэйк лав нот уор!», сексуальная революция, промискуитет, наркотики, городская герилья и все прочие приметы бурных 60-х. Роман продолжит линию «Старых моряков» и «Кинкаса-Сгинь-Вода», где фантастика причудливо перемешивается с реальностью. Не знаю, как будет развиваться сюжет. Этого я никогда не знаю, покуда не начну писать, покуда не оживут герои. Но уже есть название романа и имя для главного героя — то и другое уже породило много толков. Роман будет назван по имени героя — «Красный Борис».
Алфредо, прирожденный издатель и редактор Божьей милостью, заявил, что покупает права. Четырнадцать месяцев отбиваясь от безжалостного наступления смерти, он торопил и подгонял меня, требовал роман, к которому я с какой-то минуты утратил всякий интерес. Однажды позвонил Сержио, его сын. Конец близок. Зелия позвонила Алфредо, сказала, что я дописываю «Бориса», скоро пришлю рукопись. Она глотает слезы и лжет — лжет гладко и убедительно, это она-то, вообще не умеющая лгать. У Алфредо еще хватает сил поинтересоваться деталями.
Через несколько дней получаем известие. Мы давно его ждем и все равно поверить не можем… Теперь в память об Алфредо я обязан выполнить обещание, написать похождения юного бразильца 60-х годов. Я сажусь за машинку, тень Алфредо, как соглядатай, неотступно следует за мной, стоит за спиной. Четырежды я начинал его, четырежды бросал на полуслове. Но когда-нибудь все же сочиню историю красного Бориса — она в большей степени принадлежит не мне, а Алфредо Машадо.
Стамбул, 1989
Когда я вижусь с Яшаром Кемалем, [86] слышу его голос и смех, мне кажется, что ожил Назым Хикмет. Оба турка созданы из одного теста, из той же волшебной смеси, что служит материалом для стихов Назыма, для рассказов Кемаля — из нищеты, и героической борьбы, и мечты, и надежды.
…Мы были в небогатом музее Пьера Лоти, [87] француза, жившего в Турции, пленившегося ею, описавшего ее пейзажи, нравы и обычаи ее обитателей, а потом сидели за столиком кафе, откуда открывался вид на Стамбул: по улицам снуют толпы прохожих, и на каждом углу есть место, где можно остановиться, присесть, поболтать со знакомым — на упоительный город на берегу Босфора, на город, будто созданный для жизни, для любви. Я рассказываю Кемалю забавный случай, произошедший в 1952 году в СССР, когда там торжественно отмечали полувековой юбилей Хикмета.