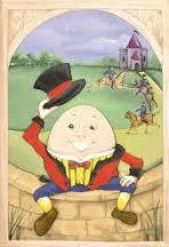Человек с яйцом. Жизнь и мнения Александра Проханова
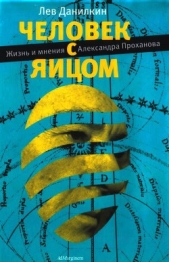
Человек с яйцом. Жизнь и мнения Александра Проханова читать книгу онлайн
Еще в рукописи эта книга вошла в шорт-лист премии «Большая книга»-2007. «Человек с яйцом» — первая отечественная биография, не уступающая лучшим британским, а Англия — безусловный лидер в текстах подобного жанра, аналогам. Стопроцентное попадание при выборе героя, А. А. Проханова, сквозь биографию которого можно рассмотреть культурную историю страны последних пяти десятилетий, кропотливое и усердное собирание фактов, каждый из которых подан как драгоценность, сбалансированная система собственно библиографического повествования и личных отступлений — все это делает дебют Льва Данилкина в большой форме заметным литературным явлением.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Любопытно, что техника становится даже более живой, буйной и иррациональной, чем сама природа. Энергия индустрии подобна силе стихии, природному электричеству. Строительство завода — неприглядный, грязный процесс, в котором, судя по советским долгостроям, больше перекуров, чем ударного труда, — обычно описывается у Проханова как буря, шторм, секс, битва — известные романтические стандарты. С другой стороны, писатель испытывает по отношению к этим процессам несколько курьезный романтический ужас. Критик Дедков, кстати, однажды точно подметил постоянную взвинченность автора, оказавшегося на стройке. Автор постоянно пребывает в состоянии войны, чувствует тревогу, исходящую от машин, которым он сочиняет гимны. Все эти стальные змеящиеся конструкции суть не что иное, как советский вариант западных фильмов ужасов, только там из щелей пространства вылезали неантропоморфные существа, а здесь описывалась экологическая катастрофа, развороченная, изнасилованная осколком стальной бутылки земля. Однако Проханов, «певец техносферы», экспонировал этот ужас как неизбежное зло, приручал его и приучал к нему.
Техника вовлекается в культуру, становится арт-объектом, причем не только что синтезированным из руды, а объектом с историей, с длинной родословной. Так, в «Месте действия» автор договаривается до того, что некий ротор был извлечен и доставлен к нам «из недр высочайшей культуры. Он мог быть задуман, создан там, где являлись один за другим плотной, непрерывной волной Ломоносов, Пушкин, Глинка».
У Проханова возникают целые стихотворения в прозе, посвященные инженерно-техническим конструкциям или оружию: комбайну, мосту, патрубку. Все металлическое, твердое, блестящее, легированное, вороненое, желательно смертоносное, вызывает у него восторг, приступ вдохновения, почти экстаз.
Проханов описывал машину, механизм, которые, принято считать, воплощают антиромантику, бездушность, плоскую схему — в терминах романтического дискурса: «я распят на крыле самолета». Этот род остранения очень эффектно выглядел в начале века (вообще, воспевание индустриальной, технической красоты — традиция, связанная с ранним авангардом, футуризмом; Маринетти заявлял, что машина красивее, чем Ника Самофракийская; тем же духом проникнуты декларации Ле Корбюзье); в 70-е те, кто пользовался этим приемом слишком всерьез, выглядели, судя по современной критике, уже несколько анекдотически.
Сам Проханов убежден, что «технику писать очень трудно» и «вообще в русской литературе технику мало кто писал». «Русская проза с жадностью набрасывается на явления мира природы, на материальный мир — но останавливается перед техникой. Советская 30-х годов — тоже не умела писать технику. Маяковский умел — „флейта-позвоночник труб“. „Лефовские задачи соцреализм выполнить не умел, не хотел, не мог и боялся. В советской живописи, может быть, только Дейнека поднимался до эстетики Леже“ — умевшего писать эту „потрясающую красоту техносферы, машинерии“». «В 20-е годы любили и понимали машину, пытались продемонстрировать любовь машин друг к другу, совокупление машин, а потом соцреализм ушел от этого. С 30-х годов никто этим не занимался. Практиковались тексты о прочности советской системы, о нравственных исканиях».
Проханов небезосновательно возводит свою — как «певца техносферы» — родословную к футуристам, Бунину («роскошные куски в „Человеке из Сан-Франциско“») и Блоку. Это довольно убедительная самоидентификация, но со стороны представляется, что в этом смысле Проханов — наследник не столько Бунина и Блока, сколько Пильняка и через него — прозы 20-х годов. Еще Тынянов в «Литературном сегодня» (1924) проницательно заметил, что «уже выработалась какая-то общая пильняковская фраза», которая мелькает то тут, то там, то у Малышкина, то у Буданцева, то у других. Это какая-то фраза о буферах, о секторе, буграх, брезентах и элеваторах. Вот она у Пильняка: «Из гама города, из шума автобусов, такси, метро, трамваев, поездов выкинуло в тишину весенних полей на восток» («Никола-на-Посадьях», М., 1923). «В Лондоне, Ливерпуле, Гавре, Марселе, Триесте, Копенгагене, Гамбурге и прочих городах, на складах, в холодильниках, в элеваторах, подвалах — хранились, лежали, торчали, сырели, сохли — ящики, бочки, рогожки, брезенты, хлопок, масло, мясо, чугун, сталь, каменный уголь» (там же). Вот она у Буданцева («Мятеж»): «рев рек, скреп, скрежетанье, дрожь: не то брань, не то свист под клинькающим буфером; визжа, занывала сталь, кроша и крошась: саповатые ахали вестингаузы <…> воспалялся и дыхал паровоз <…>. Чудовище жрало телеграфные столбы и стрелки, знобли рельсы» («Круг», 1923, № 2). Тынянов говорит о том, что такой способ «писать технику», изобретенный Буниным и процитированный Пильняком, стал в 20-е общим местом, штампом. Потом, однако ж, уже после шагиняновской «Гидроцентрали» и катаевского «Времени, вперед!», это искусство было утрачено. И только уже Проханов реанимировал его, привил к литературному приему идеологию, свою личную страсть, «футурологический проект Советов», Вернадского, Федорова и Хлебникова.
Критика, кстати, чувствовала родство Проханова с авангардом 20-х: «Его интонация, монтаж, крупный план и синтетические описания напоминают нам об индустриальных романах рубежа 20-х-30-х», — небезосновательно замечал В. Гусев.
— А что значит — никто, кроме вас, не умел писать технику? Нельзя было посадить Искандера или Маканина в самолет и отправить на полигон?
— Да что вы! Они не хотели этим заниматься! Они боялись… К тому времени это была для них чудовищная страшная мегамашина. Тогда же все это ненавидели — как Адамович, все были против этой литературы, этих бомб, ракет, атомной войны, советская страна как источник мировой атомной войны. Они на меня смотрели как на источник зла. А я на это смотрел как на красоту, как на абсолютно новую индустриальную техносферную красоту. Потом, они не умели этого делать. Белов бы не описал никогда авианосец. Он бы описал рощу, описал избу, церковь, чувства человеческие, переливы характеров. Но технику советская литература, мое поколение, описать не умела. Считало это бесовской идеей и задачей. Я был там один, и я господствовал как хотел.
После «Иду в путь мой» у него был выбор — примкнуть к деревенщикам с их страдательной архаикой — или к либералам, к «исповедальной прозе», к западникам, вроде Аксенова и Битова. Вместо этого он вступает на самый сомнительный путь — придумывает «государственный авангард». С одной стороны, там могла быть сила, с этим «авангардом» хорошо сочетались эпитеты «грозный», «победоносный», он всасывал в себя такие магистральные темы, как «индустрия», «техника», «армия», «космос» — но, с другой, на этом пути у него не было спутников. Деревенщики дали ему от ворот поворот как певцу техносферы, либералы не пускали к себе как конформиста и автора производственных эпосов, официальные писатели с подозрением относились к его авангардной взвинченности. Есть свидетельства, что когда он, даже уже будучи маститым литератором, попытался выступить с «синтезаторской» речью на инспирированном писателями патриотической ориентации диспуте «Классики и мы» 21 декабря 1977 года в ЦДЛ, ему просто не дали говорить: такой патриот им был не нужен.

«Писатель Александр Проханов». Портрет Самсонова.
Фигура Александра Андреевича на фоне Заполярья композиционно отсылает к кустодиевскому портрету Шаляпина: тот же дюжий мужик в распахнутой боярской дохе на фоне характерных зимних сцен. В нардах, запряженных лайками, восседает оленевод-монголоид, его коллега загоняет собак в готовый к взлету вертолет — лопасти которого осеняют и главного героя. Под распахнутым воротом солидной дохи видна светлая рубашка и галстук, он явно приезжий — но, нет сомнения, перед нами не просто федеральный чиновник, явившийся с инспекцией, но артист, художник, сборщик материала. В руке у него крупный, размером с книгу, блокнот, неизбежно провоцирующий возникновение ассоциации с евангелистами даже у самого наивного зрителя. В картине преобладает серо-сине-бурая холодная цветовая гамма, зимний, скудный колорит. Герой серьезен, смеяться нечему: идет битва за Север, и она далека от завершения. Если у кого здесь и есть повод улыбнуться, так это у зрителя: ба, да ведь на Проханове та самая доха: битовская, жутко линючая.