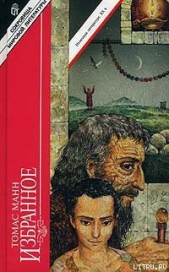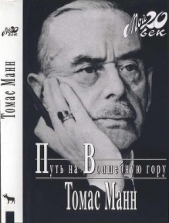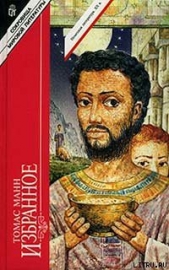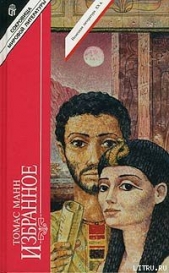На повороте
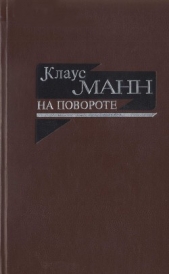
На повороте читать книгу онлайн
Клаус Манн (1906–1949) — старший сын Томаса Манна, известный немецкий писатель, автор семи романов, нескольких томов новелл, эссе, статей и путевых очерков. «На повороте» — венец его творчества, художественная мозаика, органично соединяющая в себе воспоминания, дневники и письма. Это не только автобиография, отчет о своей жизни, это история семьи Томаса Манна, целая портретная галерея выдающихся европейских и американских писателей, артистов, художников, политических деятелей.
Трагические обстоятельства личной жизни, травля со стороны реакционных кругов ФРГ и США привели писателя-антифашиста к роковому финалу — он покончил с собой.
Книга рассчитана на массового читателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мишурный блеск, окружавший мой старт, только тогда становится понятен — и только тогда простителен, — когда осознаешь солидный фон отцовской славы. Я начинал свое поприще в тени отца и, чтобы не остаться совершенно незамеченным, понемногу барахтался и вел себя слегка вызывающе. Следствием этого было то, что меня стали слишком замечать. Чаще всего со злым умыслом. Раздраженный постоянными лестью и колкостями, я вел себя, как назло, бестактно и капризно, чего, очевидно, от меня и ожидали.
Что я себе недостаточно уяснил или с чем я недостаточно считался, так это с тем фактом, что моя опрометчивая эксцентричность приносила всякого рода неприятности и моему знаменитому отцу. Его имя всплывало, как само собой разумеющееся, почти в каждом из сатирически-полемических комментариев, которыми немецкая пресса тогда столь богато одаривала меня. Я вспоминаю один рисунок в «Симплициссимусе» — одну не очень дружественную карикатуру мастера Т. Т. Гейне, — на котором я изображен стоящим позади стула своего отца. Он бросает на меня недоверчивый взгляд через плечо, в то время как я вызывающе замечаю: «Говорят, папа, что у гениальных отцов не бывает гениальных сыновей. Стало быть, ты не гений». А поэт Бертольт Брехт, который терпеть не мог ни моего отца, ни меня, начал одну забавную статью в берлинском журнале «Дас тагебух» следующей остротой: «Весь мир знает Клауса Манна, сына Томаса Манна. Кто, впрочем, такой Томас Манн?»
Анекдоты о нашей семейной жизни выдумывались остроумными головами и усердно распространялись прессой. Иногда эти россказни содержали пикантную, чтобы не сказать парадоксальную, прелесть и были правдой. К примеру, история с посвящением, которое написал мне Волшебник к рождественскому празднику 1925 года на экземпляре «Волшебной горы» и которое на самом деле гласило: «Почтенному коллеге — его подающий надежды отец». К сожалению, я был недостаточно предусмотрительным, чтобы не показать эту шутку друзьям, которые в свою очередь проболтались. Лакомый кусок для дорогих журналов!
Кстати, случай с посвящением на «Волшебной горе», который стал столь широко известен, каким-то образом характерен для позиции, занятой моим отцом в то время по отношению ко мне. Это была позиция иронического доброжелательства и выжидательной сдержанности, полускептическая, полузабавляющаяся. Я не верю, чтобы он когда-либо проявлял серьезную заботу обо мне. От этого его удерживала природная индифферентность и замкнутость, но, вероятно, и его доверие к моей интеллигентности и моим здоровым инстинктам; однако мои экстравагантности подчас могли действовать ему на нервы больше, чем он показывал или чем я хотел замечать. Между тем он всегда оставался при своем старом педагогическом принципе, который состоял в том, чтобы не вмешиваться, но только примером собственного достоинства и дисциплинированности оказывать косвенное влияние. Как бы сомнительно и рискованно мы ни вели себя, он присматривался. Иногда с шутливой улыбкой, иногда нахмурившись, но ни разу не вмешавшись и не проявив слишком живого интереса к нашей деятельности. Знал ли он вообще, где я задерживался, что делал, с кем общался в течение долгих месяцев, которые я теперь ежегодно проводил вдали от Мюнхена, вдали от отчего дома? Но не в его манере было донимать вопросами возвратившегося сына.
«Откуда ты на этот раз?» — мог осведомиться он за обедом с рассеянной сердечностью. В таких случаях Милейн имела обыкновение вмешиваться с веселым упреком. Она ведь привыкла играть роль посредницы между ним и миром, несущественные детали которого он не держал в памяти. «Но Томми! — восклицала она. — Ты уже совсем не ориентируешься. Разве ты не знаешь, что наш сын только что пережил приятный успех со своей пьесой в Базеле? Он же нам телеграфировал!» Или: «Нет, в самом деле, дорогой, как же мне не удивляться тебе! Будто бы я тебе не рассказывала, что Клаус навещал своего друга Кревеля в Давосе! Он тяжело болен, бедный Рене, история с легкими… Что, ты его не знаешь? Однако, это уже слишком! Естественно, ты знаешь Кревеля. Мы же встречали его в прошлом году в Париже, на этом отвратительном приеме у баронессы X. Он тебе даже очень понравился, хотя говорил так быстро, что ты вообще ничего не мог понять». И тогда отец делал одно, может быть, замечание о Рене, из которого неожиданно явствовало, что он знал о нем много больше, чем позволяла предполагать его первая реакция.
Временами у нас появлялось подозрение, что в действительности он осведомлен о наших делах лучше, чем это казалось; в другие мгновения он озадачивал нас своей неосведомленностью и, более того, своей незаинтересованностью. Но именно когда мы начинали себя спрашивать, принимает ли он вообще какое-нибудь участие в наших хлопотах и проблемах, он поражал и трогал нас одним небрежно брошенным словом, одним кажущимся совершенно случайным жестом. Случалось, что в журнале, который он регулярно читал, печаталась обидная критика на меня и он ее, опять-таки мне в обиду, казалось, совершенно игнорировал. За столом он болтал о погоде, в то время как в моем вдвойне уязвленном сердце бушевали бури. После еды же, как раз когда Милейн объявляла: «Ну, больше ничего нет, дети!» — он как ни в чем не бывало покачивал головой с притворной печалью и замечал, вздыхая: «Да, да, мир полон злобной глупости. К этому надо привыкнуть. Каждое утро мне приходится проглатывать по меньшей мере одну ядовитую жабу… Кажется, подобным образом жаловался в своем дневнике Флобер. А добрый Ханс Кристиан Андерсен при чтении враждебной критики просто разражался слезами. Друзьям, пытавшимся убедить его в незначительности поклепа, он с меланхолическим упрямством возражал: „Мне эта гадкая рецензия причинила сильную боль, и, таким образом, она, наверное, не может быть совершенно незначительной“. Это было все-таки очень неразумно со стороны нашего милого Андерсена, не так ли?»
Постоянные приходы и уходы в нашем доме, казалось, скорее развлекали отца, чем мешали. Впрочем, он и сам бывал часто мимоходом. Добродушно и добросовестно, не без определенной иронической торжественности, принимал он на себя многочисленные общественные обязанности, которые приносят с собой слава и литературные конгрессы, доклады, банкеты, интервью. Никто не удивлялся, если после завтрака он откланивался с небрежным кивком: «Итак, adieu, дети — до начала будущей недели! Да, ведь мне надо, к сожалению, во Франкфурт, на гётевские торжества, — разве Милейн не упоминала? Разумеется, это тягостно, но что поделаешь! Мне надо поторопиться, иначе еще пропущу поезд».
Не терял он самообладания и когда Милейн вдруг начинала причитать: «Ах, бедная моя головушка! Ну вот, опять забыла сказать шоферу, что Эрика прибывает в девять сорок! Или в десять двадцать пять? Я потеряла телеграмму, такого-то со мной еще никогда не случалось! Она везет с собой еще вроде бы и друга или подругу или дружескую пару — откуда мне это теперь знать? Раз телеграмму я потеряла…» Тогда Волшебник, удивленно и обрадованно, поднимал брови: «Так, так, Эри прибывает сегодня вечером! — И добавлял задумчиво: — Давненько я ее не видел — очень давно, так мне кажется. Хорошо, что она приезжает».
Каждый из нас появлялся в доме со своими друзьями. Михаэль и Элизабет, которые ходили в школу в Мюнхене, приводили своих полувзрослых товарищей; Моника, тишайшая из всех нас, принимала за чашкой кофе своих немногих друзей, чтобы посплетничать; Голо приезжал из Гейдельберга, где он изучал философию у профессора Ясперса, с серьезными товарищами по университету. А вокруг нас с Эрикой всегда кипела жизнь. Иногда наш дом походил на непринужденный отель за городом или штаб-квартиру бойкой банды заговорщиков. Здесь возникали интриги, флирты, дискуссии, истерические вспышки, художественные представления, ночные пирушки. Всегда что-нибудь происходило: один читал вслух стихи, другой заказывал междугородный разговор с Лондоном, в то время как третий устраивал кому-то сцену ревности или выходил из себя, потому что не мог в железнодорожном справочнике найти вечерний поезд на Бреслау. Все болтало, шутило, ругалось друг с другом на быстром и причудливом тарабарском языке, перенятом большинством друзей у семьи Манн.