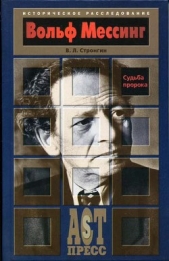Михаил Булгаков. Три женщины Мастера
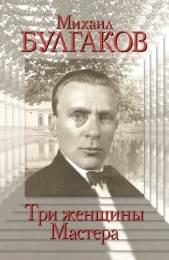
Михаил Булгаков. Три женщины Мастера читать книгу онлайн
Каким был человек, создавший самый загадочный и чувственный роман в русской литературе? У Булгакова было три жены, два развода и одна страсть. Преданная Лаппа, экстравагантная Белозерская и отчаянная Шиловская – кто же из них была той, единственной?
Его биография могла бы походить на биографию обычного земского врача тех лет: правильная семья, служба, белогвардейство, скитания и мучения русского интеллигента… Если бы не два обстоятельства. Его невероятная оглушающая литературная гениальность и… морфий.
Автор книги – известный писатель и исследователь Варлен Стронгин, изучив практически каждый день из жизни Михаила Афанасьвевича, сумел настолько захватывающе изложить историю жизни и любви Булгакова на бумаге, что, поверьте, эта рукопись не сгорит…
Книга также выходила под названием «Михаил Булгаков. Морфий. Женщины. Любовь».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Юрий Львович Слезкин сказал Тасе, что Михаил не всегда высказывается по тому или иному вопросу, но это не осторожность, а раздумье, – он еще не все понял, не все решил, а о том, в чем уверен, скажет прямо, без осторожности, например о Пушкине. И кстати, обещал свою первую книжку подарить Юрию Львовичу с подписью: «На память о наших скитаниях и страданиях у Столовой горы». Но сегодня он о них не думает. Он шагает на полметра впереди Таси, и вид у него весьма воинственный. На углу бульвара и площади, выложенной булыжником, Михаил неожиданно останавливается у чистильщика, облюбовавшего здесь местечко. Не оглядываясь вокруг, Булгаков ставит ногу на подножку ящика чистильщика, демонстрируя, с точки зрения членов цеха поэтов, буржуазную привычку белых офицеров – чистить сапоги. Тася удивлена его смелости и одаривает мужа ободряющим взглядом. А он вдруг говорит, что познакомился с изможденной морщинистой старушкой – первой из местных жителей взобравшейся на Казбек. Несмотря на преклонные годы, она каждое лето поднимается туда и говорит, что с каждым сезоном восхождение становится все труднее и труднее и она думает, что если не поднимется в это лето, то умрет. Тася понимает Михаила. Его жизнь – череда сплошных восхождений, и если он не совершит сегодня одно из них, то не сможет осилить следующее. Он, конечно, не читал стихов Эдуарда Багрицкого о Пушкине, но мог бы сказать похоже, будучи на его месте: «Я мстил за Пушкина под Перекопом, я Пушкина через Урал пронес, я с Пушкиным шатался по окопам, покрытый вшами, голоден и бос…» Места разные, разные стороны баррикад, но отношение к великому поэту как к русской святыне у настоящих поэтов одинаковое.
Для Таси этот диспут очень важен. После него, как кому-то ныне может показаться странным, ей казалось, что станет видно, в какую сторону качнется жизнь – в демократическую и культурную или тоталитарную и примитивную. Это еще не было категорически ясно для Таси, а за океаном казалось загадкой за семью печатями. Поэтому руководство американского Стенфордского университета направило в Россию двух своих ученых для выяснения того, что происходит в России. Они встречались с Анатолием Васильевичем Луначарским, и возможно, в дальнейшем именно это сказалось на его судьбе, сначала в нападках на наркома просвещения и его жену – красивую актрису Розенель; нелепое обвинение в том, что по его вине задержался отход поезда Москва – Петроград, затем понижение в должности и отправка послом за границу, где, не добравшись до места назначения, он скончался при невыясненных обстоятельствах. Помимо высказывания личных впечатлений Анатолий Васильевич прочитал американским ученым выдержку из речи Ленина «Задачи Союзов молодежи» на III Всероссийском съезде комсомола 2 октября 1920 года: «Только точным знанием культуры, созданной всем развитием человечества, только переработкой ее можно строить пролетарскую культуру». Многие культуртрегеры, особенно на периферии, «переработку» восприняли даже не как переделку наследия старого, а его полное и бесповоротное уничтожение.
Тася уже слышала, как Астахов расправился с Достоевским, Чеховым и Гоголем, считал нужным даже вычеркнуть их имена из истории, обещал подготовить доклад о Пушкине, потом, для усиления резонанса, перенес его из обычной клубной аудитории на диспут в летний театр, расположенный на Треке.
Несмотря на июльскую жару, зал быстро заполнялся публикой. Помимо кучки молодежи из цеха поэтов пришли воспитанники бывшей женской и мужской гимназий, реального училища, музыканты, актеры, учителя, врачи, адвокаты и люди, не нашедшие себе места при новой власти. Тася ликовала, чувствуя, что это сторонники Миши, а у Астахова при виде валившей в зал публики буквально отвисла челюсть. Он не ожидал, что отношение новой власти к Пушкину, даже в местном масштабе, заинтересует людей, которых он считал недобитой буржуазией и которых странный большевистский начальник Ной Буачидзе тоже относил к народу, как пролетариат и крестьянство.
Тасю обрадовало, что люди были одеты нарядно, шли на диспут, как на праздник, предвкушая, как дико и безнравственно будут выглядеть типы, покушающиеся на великого поэта.
На сцене, именуемой раковиной, шли приготовления к диспуту. Уже был установлен стол, покрытый красным ситцем, справа от него кафедра для выступающих, а слева стояло потрескавшееся кожаное кресло, из дыр которого вылезала посеревшая от времени вата. На кресле был портрет Пушкина, привязанный к спинке кресла толстой грязной веревкой. Тася примостилась на выступе у сцены и слышала недоуменные возгласы Михаила и Бориса Ричардовича.
– Не понимаю, не понимаю! – пробурчал Беме.
– А мне все понятно. Это заранее задуманное издевательство над классиком! – резко произнес Булгаков.
Астахов вывел участников диспута на сцену и, чтобы утихомирить недовольство публики, затряс колокольчик.
– Граждане, товарищи, начинаем вечер-диспут. Как видите, сегодня у нас на скамье подсудимых помещик и камер-юнкер царской России Пушкин Александр Сергеевич…
– Великий поэт! – под одобрительные возгласы из зала выкрикнул Миша, но, не выдержав кощунственного отношения к поэту, растерянно заговорил дрожащим голосом, не теряя основной мысли: – Гражданин председатель! Мы, оппоненты, пришли на диспут, а не издевательство над портретом великого русского поэта… Вы можете нарядить его как пугало, но стихи его не станут хуже ни на йоту! Требуем прекратить это глумление!
К кафедре подошел по-адвокатски обаятельный и рассудительный Беме. Стал рядом с нею.
– Я не на суде, а на диспуте, – начал он твердым, чистым голосом. – Я как адвокат заверяю почтенную публику в том, что человек, убитый почти сто лет назад, вообще неподсуден! Он не нарушал законы строя, при котором жил. Никого не убил! Нет такого закона и статьи, по которой можно обвинить Пушкина! Можно спорить о его гениальном творчестве. Не более… Хотя не допускаю, чтобы культурному умному человеку оно не понравилось. Если кощунство над портретом великого Пушкина не прекратится, то мы с писателем Булгаковым немедленно покинем зал.
И зал взорвался, расколовшись на две стороны. Меньшая, из молодых поэтов и части совработников, стала кричать и свистеть, основная – аплодировать Беме. Тасе казалось, что она хлопает ему больше всех. Михаил сдержанно, но не без удовольствия улыбался уголками губ. Астахов в панике покинул сцену и, видимо, боясь, что сорвется важное агитационное мероприятие, дал указание двум крепким парням унести стул с портретом Пушкина. Зал долго не мог успокоиться, несмотря на трели колокольчика, вновь появившегося в руках ведущего. Наконец зал успокоился. Слово взял Астахов.
Вот как описывает это сам Булгаков в «Записках на манжетах»: «В одну из июньских (июльских. – В. С.) ночей Пушкина он обработал на славу. За белые штаны, за «вперед хожу я без боязни», за «камер-юнкерство» и «холопскую стихию вообще», за «псевдореволюционность и ханжество», за неприличные стихи и ухаживание за женщинами…
Обливаясь потом, в духоте, я сидел на первом ряду и слушал, как докладчик рвал на Пушкине в клочья белые штаны. Когда же, освежив стаканом воды пересохшее горло, он предложил в заключение Пушкина выкинуть в печку, я улыбнулся. Каюсь. Улыбнулся загадочно, черт меня возьми! Улыбка не воробей!
– Выступайте оппонентом!
– Не хочется!
– У вас нет гражданского мужества.
– Вот как? Хорошо, я выступлю!
И я выступил, чтоб меня черти взяли! Три дня и три ночи готовился. Сидел у открытого окна, у лампы с красным абажуром. На коленях у меня лежала книга, написанная человеком с огненными глазами.
…Ложная мудрость мерцает и тлеет. Пред солнцем бессмертным ума…
Говорил Он:
Клевету приемли равнодушно.
Нет, не равнодушно! Нет. Я им покажу! Я покажу! Я кулаком грозил черной ночи.
И показал! Было в цехе смятение. Докладчик лежал на обеих лопатках. В глазах публики я читал безмолвное, веселое:
«Дожми его! Дожми!»
Потом в местном журнале «Творчество», сохранившемся в музее Владикавказа, вероятно в единственном экземпляре, поскольку я получил его без правой нижней части, изрядно выеденной крысами, писалось, что устроенный цехом пролетарских поэтов диспут о Пушкине вызвал значительный интерес. К сожалению, на двух первых вечерах диспута с основным докладом т. Астахова (снятого за ошибки с редакторства. – B. C.) была обывательская, разряженная толпа, которая привыкла олицетворять в Пушкине свое мещанство, свою милую «золотую середину», свой уют, тихий и сытый, и серенькую, забитую, трусливую мысль. Ей не по нутру были утверждения докладчика, развенчавшего «кумира» Пушкина и его псевдореволюционность».