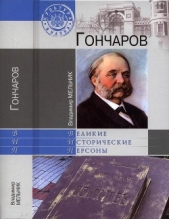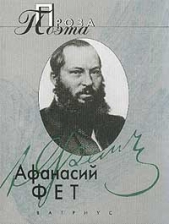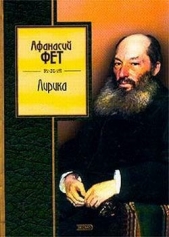Воспоминания

Воспоминания читать книгу онлайн
В книгу «Воспоминания» вошли мемуары А.А. Фета («Ранние годы моей жизни» и «Мои воспоминания»), которые рисуют яркую картину русской жизни на протяжении почти шести десятилетий и представляют собой источник для изучения жизненного и творческого пути А.А. Фета (1820–1892).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Марья Ивановна, — сказала Петкович, — вы знаете, что Афанасий Афанасьевич никогда не откажется от кофею: угостите нас кофейком. — Когда кофей был подан, Марья Ивановна попросила позволения воспользоваться случаем для свидания с одной знакомой.
— Сделайте милость, — отвечала Елизавета Федоровна. И по уходе компаньонки свела речи о заметном опустении края после ухода кавалерии.
Летний вечер между тем погас, и голубая ночь вступила в свои права. Полная луна, глядя в окно, перерезала полусумрак комнаты ярким светом. Поло- са эта озаряла стоящий под окном стул. Вдруг Елизавета Федоровна с привычным проворством вскочила с дивана и, подхватив плетеный стул, поставила его рядом с освещенным луною.
— Я попрошу вас на минуту сесть сюда, — сказала она, опускаясь на освещенный стул.
Люди усланы, подумал я, и я посажен так, чтобы видно было малейшее выражение моего лица. Тут какая-то тайна, но какая, я не мог угадать.
— Я говорила вам, — начала моя собеседница, — что приехала в монастырь, но это далеко не верно. Я приехала к вам.
— Я в этом сам убедился, — сказал я, наклоняя голову.
— Я хотела спросить вас, — продолжала она, — что нам делать с Helene: она в таком отчаянии, в такой тоске, что мы сами потеряли голову. Отправить ее в таком положении к отцу мы не решаемся, и глядеть на нее тоже невыносимо.
— Я уверен, — сказал я, — что привела вас сюда ваша врожденная доброта и участие, которое вы принимаете в племяннице, но не могу поверить, чтобы это было по ее просьбе.
— О, в этом случае вы совершенно правы. Она ни о чем меня не просила; она неспособна ни на что и ни на кого жаловаться.
— Зная взаимное доверие ваше с племянницей, — сказал я, — я был уверен, что вам давно известны наши с нею взгляды на наши дружеские отношения; известно также, что я давно умолял вашу племянницу дозволить мне не являться более в Федоровке.
— Вы должны были исполнить ваше намерение, так как вы уже не мальчик, слепо увлекающийся минутой.
— Я принимаю ваш вполне заслуженный упрек. Я виноват; я не взял в расчет женской природы и полагал, что сердце женщины, так ясно понимающей неумолимые условия жизни, способно покориться обстоятельствам. Не думаю, чтобы самая томительная скорбь в настоящем давала нам право идти к неизбежному горю всей остальной жизни.
— Может быть, может быть! — воскликнула Елизавета Федоровна, — но что же нам делать? Чем помочь беде?
— Позвольте мне вручить вам письмо к ней, и я могу вас уверить, что она постарается успокоить вас насчет своего душевного состояния.
— Я вас об этом прошу.
— В таком случае, — продолжал я, — позвольте, поцеловав руку вашу, пойти к себе написать письмо к раннему вашему отъезду.
Мы уже давно были с Helene в переписке, но она с самого начала писала мне по-французски, и я даже не знаю, насколько она владела русской «почтовой прозой». Я всегда писал ей по-русски.
Через несколько дней я получил по почте самое дружеское и успокоительное письмо.
Вступая в Крылове по отводу в ту самую квартиру, в которой в день приезда моего в полк приютил меня мой И. П. Борисов, я волновался самыми разнообразными, хотя не совсем определенными чувствами [158]. Я один, Борисова, давно покинувшего полк, со мной нет, но зато, как полковой адъютант, я должен, невзирая ни на какие волнения, прочно утвердиться в своем новом положении
Среди самых непохвальных наклонностей человека в душе его могут таиться перлы, каких не найдется в душе самого строго нравственного человека. Это отчасти и понятно, так как всякий хороший или дурной порыв представляет самобытную деятельность, тогда как безупречность — условие только отрицательное.
Прибыл наконец и начальник дивизии, барон Фитингоф, на полковой кампамент и тотчас же приступил к инспекторскому смотру лошадей на выводке по годам [159].
Поставили для начальства стулья и столик, к которому явился и я с книгою полковых описей.
— Полковник, вы довольны вашим исправляющим должность адъютанта? — спросил Фитингоф.
— Доволен, ваше превосходительство, — был ответ, — и так как он произведен в поручики, то прошу ваше превосходительство об утверждении его в должности.
Чтобы не сомневаться в годе поступления лошади на службу, каждый год ремонт назывался со следующей буквы алфавита против прошлогоднего.
Название девяноста лошадей на одну и ту же букву дело далеко не легкое. А так как проводили лошадей большею частию взводные унтер-офицеры и вообще люди полированные, то, поравнявшись с лошадью против начальника дивизии, каждый считал нужным отчетливо произнести имя лошади, прибавляя: «ваше превосходительство».
Один кричит: «Дудак, ваше пр-о», другой кричит: «кобыла Душка, ваше пр-о» и наконец: «конь Дурень, ваше пр-во».
Надо было принять меры, чтобы люди, по желанию начальника дивизии, не прибавляли слов: «ваше пр-о».
— Ваше пр-о, — вполголоса сказал Карл Федорович, наклоняясь к генералу, — разрешите адъютанту исправить в описи имя коня Гротус: таково имя вашего адъютанта, и не совсем ловко будет, если в присутствии его поведут лошадь на поводу и выкрикнут: «Гротус».
— Вы можете исправить это имя в описи по желанию, — сказал генерал, — но я тут обидного ничего не вижу, и был бы рад, если бы хорошая лошадь называлась Фитингоф.
Не одно начальство испытало на этот раз некоторую неловкость от оглашения конской описи, на которую я, недавно вступив в должность, не обратил надлежащего внимания и предоставил своему гениальному старшему писарю Беликову сочинить на целый ремонт имен на букву «ж». Задавшись работой, он нашел в ней случай блеснуть сведениями по части иностранных языков и преимущественно французского. Кроме несколько загадочного Жабоклиц, появились очевидно французские: Жентабль, Жевузем, Жевузадор и другие, которых не припомню. К сожалению, унтер-офицер каждый раз порочил коня, выговаривая Живозадер вместе Жевузадор.
Вероятно, в частых разговорах с Карлом Федоровичем я проговорился о томившем меня желании издать накопившиеся в разных журналах мои стихотворения отдельным выпуском, для чего мне нужно бы недельки две пробыть в Москве.
— Вот кстати, — сказал полковник, — я вам дам поручение принять от поставщика черные кожи для крышек на потники. Вы получите от меня формальное поручение и подорожную по казенной надобности.
Я и поныне убежден, что эту командировку придумал барон, желая мне помочь.
Пробыв проездом в Новоселках самое короткое время, я прямо проехал в Москву к Григорьевым, у которых поместился наверху на старом месте, как буд. то бы ничто со времени нашей последней встречи и не случилось [160]. Аполлон после странствований вернулся из Петербурга и занимал по-прежнему комнатки налево, а я занял свои по правую сторону мезонина. С обычной чуткостью и симпатией принялся Аполлон за редакцию стихов моих. При скудных материальных средствах я не мог тратить больших денег на переписку стихотворений, подлежавших предварительной цензуре. Услыхав о моем затруднении, старик Григорьев сказал: «Да чего вам искать? Возьмите бывшего своего учителя П. П. Хилкова. Вы ему этой работой окажете великую помощь, так как он в страшной бедности».
Между прочим я нашел время забежать к давно знакомому Василию Петровичу Боткину, литературным судом которого дорожил.
Хотя дело было в дообеденную пору, я застал у него на кресле в поношенном фраке кудрявого с легкой проседью человека среднего роста.
— Василий Петрович, — сказал я, — я пришел к вам с корыстною целью воспользоваться часом вашего времени, чтобы подвергнуть мой стихотворный перевод шиллеровской «Семелы» вашему суду, если это не стеснит вас и вашего гостя.
И хозяин, и гость любезно приняли мое предложение, и, достав тетрадку из кармана, я прочел перевод. Когда я, окончив текст, прочел: «Симфония, занавес падает», — посетитель во фраке встал и сказал: «Конца-то нет, но я понимаю, предоставляется актеру сделать от себя надлежащее заключение».