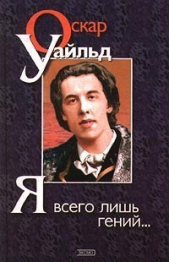Письма

Письма читать книгу онлайн
В этой книге собраны письма Оскара Уайльда: первое из них написано тринадцатилетним ребенком и адресовано маме, последнее — бесконечно больным человеком; через десять дней Уайльда не стало. Между этим письмами — его жизнь, рассказанная им безупречно изысканно и абсолютно безыскусно, рисуясь и исповедуясь, любя и ненавидя, восхищаясь и ниспровергая.
Ровно сто лет отделяет нас сегодня от года, когда была написана «Тюремная исповедь» О. Уайльда, его знаменитое «De Profundis» — без сомнения, самое грандиозное, самое пронзительное, самое беспощадное и самое откровенное его произведение.
Произведение, где он является одновременно и автором, и главным героем, — своего рода «Портрет Оскара Уайльда», написанный им самим. Однако, в действительности «De Profundis» было всего лишь письмом, адресованным Уайльдом своему злому гению, лорду Альфреду Дугласу. Точнее — одним из множества писем, написанных Уайльдом за свою не слишком долгую, поначалу блистательную, а потом страдальческую жизнь.
Впервые на русском языке.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я нахожу гораздо более глубокое и непосредственное соприкосновение подлинной жизни Христа с подлинной жизнью художника и испытываю острую радость при мысли, что задолго до того, как скорбь взяла меня в свои руки и предала меня колесованию, я писал в «Душе человека», что человек, стремящийся в своей жизни подражать Христу, должен всецело и неукоснительно оставаться самим собой, и привел в пример не только пастуха на холмах и узника в темнице, но и живописца, для которого весь мир — зрелище, и поэта, для которого весь мир — песня. Помню, я как-то сказал Андре Жиду {204}, сидя с ним вместе в каком-то парижском кафе, что хотя Метафизика меня мало интересует, а Мораль — не интересует вовсе, но тем не менее все, когда-либо сказанное Платоном или Христом, может быть перенесено непосредственно в сферу искусства и найдет в ней свое наиболее полное воплощение. Это обобщение было столь же глубоко, как и ново.
Мы можем увидеть в Христе то полное слияние личности с идеалом, которое составляет истинное различие между классическим и романтическим Искусством и превращает Христа в подлинного предтечу романтического движения в жизни, но это не все: самую суть его личности, так же как и личности художника, составляло могучее, пламенное воображение. В сфере человеческих отношений он проявлял то родственное внимание художника, которое в сфере Искусства является единственной тайной творчества. Он понимал проказу прокаженного, незрячесть слепого, горькое злосчастие тех, кто живет ради наслаждения, странную нищету богатых. Теперь тебе понятно — понятно ли? — что, написав мне в моем бедственном положении: «Когда вы не на пьедестале, вы никому не интересны. Как только вы заболеете в следующий раз, я немедленно уеду», — ты был равно чужд и истинной природе художника, и тому, что Мэтью Арнольд называет «тайной Христа» {205}. Если не первое, то второе могло бы дать тебе почувствовать, что все, происходящее с другим, происходит с тобой лично, и, если ты хочешь, чтобы перед тобой была надпись, которую ты мог бы читать на рассвете и на закате, на горе и на радость, начертай на стенах своего дома буквами, доступными солнечной позолоте и лунному серебру: «Все, что происходит с другим, происходит с тобой», — и если кто-нибудь спросит, что означает эта надпись, можешь ответить, что она означает «Сердце Господа Иисуса Христа и разум Шекспира».
Да, место Христа — среди поэтов. Все его понимание Человечности порождено именно воображением и только через воображение может быть осуществлено. Человек был для него тем, чем Бог — для пантеиста. Он был первым, кто признал единство и равенство рассеянных племен. До него были боги и люди, и, почувствовав, через чудо сострадания, что в нем воплотилось и то и другое начало, он стал именовать себя то сыном Божьим, то сыном Человеческим, смотря по тому, кем он себя ощущал. Он больше, чем кто-либо за всю историю человечества, пробуждает в нас то ощущение чуда, к которому всегда взывает Романтизм. До сих пор мне кажется почти непостижимой мысль, что молодой поселянин из Галилеи смог вообразить, что снесет на своих плечах бремя всего мира: все, что уже свершилось, и все прошедшие страдания, все, чему предстоит свершиться, и все страдания будущего: преступления Нерона, Цезаря Борджиа, Александра VI и того, кто был римским императором и Жрецом Солнца {206}, все муки тех, кому имя Легион и кто имеет жилище во гробах {207}, порабощенные народы, фабричные дети, воры, заключенные, парии — те, кто немотствуют в угнетении и чье молчание внятно лишь Богу; и не только смог вообразить, но и сумел осуществить на деле, так что до наших дней всякий, кто соприкасается с его личностью, — пусть не склоняясь перед его алтарем и не преклоняя колен перед его служителями, — вдруг чувствует, что ему отпускаются его грехи во всем их безобразии, и красота его страдания раскрывается перед ним. Я говорил о нем, что Он стоит в одном ряду с поэтами. Это правда. И Софокл и Шелли ему сродни. Но и сама его жизнь — чудеснейшая из всех поэм. Во всех греческих трагедиях нет ничего, что превзошло бы ее в «жалостном и ужасном» {208}. И незапятнанная чистота главного действующего лица поднимает весь замысел на такую высоту романтического искусства, где страдания фиванского рода {209} не идут в счет оттого, что они слишком чудовищны, и показывает, как ошибался Аристотель, утверждая в своем трактате о трагедии, что смотреть на муки невинного — невыносимо {210}. Ни у Эсхила, ни у Данте — этих суровых мастеров нежности, — ни у Шекспира, самого человечного из всех великих художников, ни во всех кельтских мифах и легендах, где прелесть мира всегда туманится слезами, а жизнь человека — не более жизни цветка, не найти той прозрачной простоты пафоса, слившегося и сплетенного с тончайшим трагическим эффектом, которая сравняла бы их хотя бы приблизительно с последним актом Страстей Христовых. Тайная вечеря с учениками, один из которых уже продал его за деньги; смертельная скорбь в тихом, озаренном луной саду среди масличных деревьев; тот лицемерный друг, который приближается к нему, чтобы предать его поцелуем; и тот, все еще веривший в него и на котором, как на краеугольном камне, он надеялся основать Обитель Спасения для людей, отрекается от него прежде крика петуха на рассвете; его глубочайшее одиночество, покорность, приятие всего; и рядом с этим сцены, изображающие первосвященника, разодравшего в гневе свои одежды, и главного представителя государственной власти, который приказал принести воды в напрасной надежде омыть руки от крови невинного, обагрившей его навеки; и церемония венчания на царство Страдания, одно из самых дивных событий во всей известной нам истории; распятие Агнца невинного перед глазами его матери и ученика, которого он любил; солдаты, делящие ризы его между собой и об одежде его бросающие жребий; ужасная смерть, которой он даровал миру самый вечный из всех символов; и, наконец, его погребение в гробнице богача, в пеленах из египетского полотна с драгоценными ароматами и благовониями, словно он был царским сыном, — глядя на все это только с точки зрения искусства, чувствуешь себя благодарным за то, что самое торжественное богослужение в Церкви являет собой трагедийное действо без кровопролития, мистерию, представляющую даже Страсти своего Бога посредством диалога, костюмов, жестов; и я всегда с радостью и благоговением вспоминаю последнее, что нам осталось от греческого Хора, позабытого в Искусстве, — голос диакона, отвечающий священнику во время мессы.
И все же жизнь Христа по сути своей — идиллия, настолько полно могут Страдания и Красота слиться воедино в своем смысле и проявлении, хотя в финале этой идиллии завеса в храме разодралась, и настала тьма по всей земле, и к двери гроба привалили большой камень. Его всегда видишь юным женихом в сопровождении друзей, — да и сам он называет себя женихом, — или пастырем, идущим по долине со стадом, в поисках зеленой травы и прохладных источников, или певцом, стремящимся воздвигнуть из музыки стены Града Господня, или влюбленным, чью любовь не вмещает мир. Его чудеса кажутся мне изумительными, как наступление весны, и столь же естественными. Мне нисколько не трудно поверить тому, что обаяние его личности было так велико, что от одного его присутствия мир нисходил на страждущие души, а те, кто касался его рук или одежды, забывали о боли; что, когда он проходил по дорогам жизни, люди, никогда не понимавшие тайну жизни, вдруг постигали ее, а те, кто был глух ко всем голосам, кроме зова наслаждения, впервые слышали голос Любви и находили его «сладостным, как лира Аполлона» {211}, что злые страсти бежали от лица его, и люди, чья тусклая, тупая жизнь была всего лишь разновидностью смерти, вставали, словно из могилы, когда он призывал их; что, когда он учил на склоне горы, толпа позабыла и голод, и жажду, и заботы мира сего, а друзьям, внимающим ему за трапезой, грубая пища казалась изысканной, вода приобретала вкус доброго вина, и весь покой наполнялся ароматом и благоуханием нарда.