Тринадцатый апостол. Маяковский: Трагедия-буфф в шести действиях
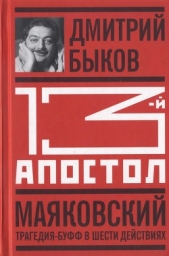
Тринадцатый апостол. Маяковский: Трагедия-буфф в шести действиях читать книгу онлайн
Подлинное значение Владимира Маяковского определяется не тем, что в советское время его объявили «лучшим и талантливейшим поэтом», — а тем, что и при жизни, и после смерти его личность и творчество оставались в центре общественного внимания, в кругу тем, образующих контекст современной русской культуры. Роль поэта в обществе, его право — или обязанность — активно участвовать в политической борьбе, революция, любовь, смерть — всё это ярко отразилось в стихах Маяковского, делая их актуальными для любой эпохи.
Среди множества книг, посвященных Маяковскому, особое место занимает его новая биография, созданная известным поэтом, писателем, публицистом Дмитрием Быковым. Подробно описывая жизненный путь своего героя, его отношения с властью, с женщинами, с соратниками и противниками, автор сосредоточивает внимание на ключевых моментах, видя в них отражение главных проблем русской интеллигенции и шире — русской истории. Этим книга напоминает предыдущие работы Быкова в серии «ЖЗЛ» — биографии Б. Пастернака и Б. Окуджавы, образуя вместе с ними трилогию о судьбах русских поэтов XX века.
знак информационной продукции 16+
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В хвасовской гостиной, там, где стояли рояль и пальмы, было много чужих людей. Все шумели, говорили, Ида сидела у рояля, играла, напевала. Почему-то запомнился художник Осьмеркин, с бледным, прозрачным носом, и болезненного вида человек по фамилии Фриденсон. Кто-то необычайно большой, в черной бархатной блузе, размашисто ходил взад и вперед, смотрел мимо всех невидящими глазами и что-то бормотал про себя. Потом, как мне сейчас кажется — внезапно, он также мимо всех загремел огромным голосом. И в этот первый раз на меня произвели впечатление не стихи, не человек, который их читал, а все это вместе взятое, как явление природы, как гроза… Маяковский читал „Бунт вещей“, впоследствии переименованный в трагедию „Владимир Маяковский“.
Ужинали все в той же мастерской за длинным столом, но родителей с нами не было, не знаю, где они скрывались, может быть, спали. Сидели, пили чай… Эти, двадцатилетние, были тогда в разгаре боя за такое или эдакое искусство, я же ничего не понимала, сидела девчонка девчонкой, слушала и теребила бусы на шее… нитка разорвалась, бусы посыпались, покатились во все стороны. Я под стол, собирать, а Маяковский за мной, помогать. На всю долгую жизнь запомнились полутьма, портняжий сор, булавки, нитки, скользкие бусы и рука Маяковского, легшая на мою руку.
Маяковский пошел меня провожать на далекую Маросейку. На площади стояли лихачи. Мы сели на лихача».
Они сели на лихача — и понеслось. Эльза никогда не сомневалась в его поэтической гениальности и рекламировала где только могла. Тут же опять возникает любимая тема «вывески» — когда Маяковский оставлял в прихожей у Каганов свою огромную, в 15 сантиметров визитную карточку с желтой надписью по белому фону «Владимир Маяковский», Елена Юрьевна Каган, мать Эльзы и Лили, возвращала ее на следующий день со словами: «Владимир Владимирович, вы забыли вашу вывеску».
Именно благодаря Эльзе он впервые увиделся с Лилей, когда летом 1915 года побывал у них на даче в Малаховке. Именно к Эльзе он пришел на бриковскую квартиру — в знаменитый дом на улице Жуковского, 7, — чтобы там влюбиться в Лилю уже навсегда. О том, чего стоила Эльзе его измена, она никогда не писала, хотя посвятила ему несколько очерков, в том числе французскую книжку «Маяковский, русский поэт» (Лиля высоко ее оценила, указав на ряд неточностей). Напротив, во всех воспоминаниях она пишет, что к самому Маяковскому относилась «ласково и равнодушно», а любила только его стихи — как любят явления природы, горы, море. Но травма, нанесенная им, была серьезна: Эльза продолжала ранить других только за то, что они не Маяковский, меньше, проще Маяковского. И лишь Арагон — поэт далеко не того масштаба, но сходного темперамента — заменил его.
Их отношения после разрыва (почти не замеченного Маяковским в буре отношений с Лилей) были непросты: так случается, когда роман оборван на взлете. Маяковский, кстати, мечтал сначала о романе «Две сестры» — ему нравилась ситуация последовательной влюбленности в двух кровных сестер, было тут нечто грубое и вместе с тем волшебное, почти сказочное. С Эльзой он часто срывался, иногда часами мрачно молчал (уходить ей при этом запрещал) — впрочем, Хлебников тоже терпеть не мог разговоров, и на одних (на Мандельштама, скажем) его молчание действовало угнетающе, а другим (Петровскому, например) казалось высшей формой общения, разговором без слов. Футуристы знают, что прежние слова недостаточны, и потому предпочитают молчать, особенно когда речь — подспудная, непроизносимая, — заходит о любви. Когда Эльза вышла замуж за француза Андре Триоле и уехала сначала в Париж, а потом с мужем на Таити, Маяковский выпал из поля ее зрения; вернувшись в Москву 1925 года, после семи лет отсутствия, в разгар нэпа, она поразилась более всего двум переменам: все знают Маяковского и в городе есть пирожные! (Трудно сказать, что ее обрадовало больше: ей больше нравилось, когда он был ее собственностью, и масштаб его дарования понимала она одна да еще догадывался Бурлюк.)
Бывая в Париже, Маяковский общался с местными жителями «на триоле» — то есть исключительно при ее посредстве; его бесила эта зависимость, и он часто на ней срывал зло, и она умудрялась это прощать, потому что любила «дядю Володю», как называла его с восемнадцати лет. В Триоле вообще было то, что потом так оценил Шкловский, автор посвященной ей книги «Zoo, или Письма не о любви». («После этой несчастной любви я могу любить только счастливо», — говорил он; вообще, может быть, это да «Сентиментальное путешествие» — вообще лучшее, что он написал.) Ее очарование заключалось в скрытности, мягкости, внутренней тишине — она знала и понимала больше, чем сестра, но не обладала ни ее яркой красотой, ни тем, что принято называть appeal. (Шишков, прости.) Есть люди, наделенные такой внутренней тишиной, и с ними действительно хорошо молчать.
Именно во время увлечения Эльзой написано стихотворение «Послушайте!», первой читательницей которого она стала, — вероятно, самое известное стихотворение Маяковского. Сохранилась авторская запись декабря 1920 года — очень обыденная, без малейшего налета декламационности и актерства. Запишем эта стихи без разбивки — так нагляднее их интонация, тоже подчеркнуто будничная:
В чем тут, собственно, тайна, и почему это так действует? (Разборов этого текста существует великое множество, большей частью школьнических и плоских, и нет необходимости добавлять к этому свой, но хоть самому-то себе почему бы не объяснить?) Я думаю, тут дело вот в чем: мы говорили уже и не раз еще будем вспоминать о том, что главное противоречие Маяковского (или не столько противоречие, сколько сочетание) — это величие и ненужность, грандиозность и беспомощность, триумфальность во всех проявлениях и поражение по всем фронтам. Так вот звезды для него как раз и есть сочетание грандиозности — и микроскопической малости: величие, которого никто не видит. Если звезды зажигают — и если я, такой огромный и прекрасный, дан вам в ощущении как нечто совершенно неуместное, — значит, это нужно кому-нибудь? И всё стихотворение — на этой двойственности: мощный, рокочущий голос (он ощущается и в самой чрезвычайно убедительной риторике этого текста, в его наступательной образности) настойчиво, почти жалобно умоляет: «Послушайте!» Грохот, рокот, бас, которого никто не слышит. Жилистая рука Бога — владыки всего сущего и вместе с тем Творца, пролетария, который занят непрерывной работой (и, видимо, у него тоже есть приемные часы — иначе откуда этот страх опоздания). Звезда — это и жемчужина, и плевочек: все великое, что нам дано, — мы воспринимаем снисходительно, как малое; все в неразрывной связи, в единой цепи; все, кажущееся ненужным, необходимо. «Как Бог смел меня создать?» — спрашивал он Женю Ланг. Но, значит, не мог не создать! Кому-нибудь нужно! Великое умоляет, чтобы его увидели — и пощадили. Жалобность и жалкость величия — вот на этой, так сказать, дуговой растяжке все и держится, и в стихотворении, и в мире.





















