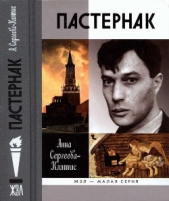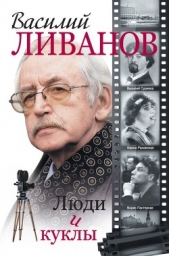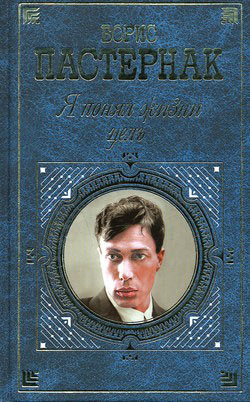Годы с Пастернаком и без него

Годы с Пастернаком и без него читать книгу онлайн
Свою книгу «Годы с Борисом Пастернаком» Ольга Ивинская завершает словами: «Любимый мой! Вот я кончаю работу, завещанную тобой. Прости меня, что написала ТАК; я не могла и никогда не смогла бы написать на уровне, которого ты достоин… Большая часть прожитой сознательной жизни была посвящена тебе, как будет посвящен и ее остаток…»
В этой книге впервые объединены мемуары О. Ивинской (в сокращенном виде) и ее дочери И. Емельяновой о Борисе Пастернаке. В книгу также вошли воспоминания Ирины Емельяновой об Ариадне Эфрон, о Варламе Шаламове. Впервые публикуются эссе «Парижские этюды» И. Емельяновой и фрагменты из ее «Записных книжек».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Жидкая лапша показалась вкусной, а главное — была горячей и согрела нас. Дальше путь до тайшетского лагеря мы проделали уже роскошно, в каких-то санях-розвальнях. <…>
Любимый мой! Вот я кончаю работу, завещанную тобой. Прости меня, что я написала ТАК; я не могла и никогда не смогла бы написать на уровне, которого ты достоин. Когда мы с тобой встретились впервые в «Новом мире», мне едва исполнилось тридцать четыре года. Большая часть прожитой сознательной жизни была посвящена тебе, как будет посвящен и ее остаток.
Ты знаешь — жизнь не была ко мне милосердной. Но я не сетую: она мне подарила огромное счастье любви, дружбы, близости с тобой.
Ты всегда мне говорил, что жизнь милосерднее, жизнь добрее к нам, чем мы обычно ожидаем. Это — великая правда. И я никогда не забываю твой завет: «Никогда, ни при каких случаях не надо отчаиваться. Надеяться и действовать — наша обязанность в несчастии».
Но ты был прав: нас не учат ничьи уроки, и мы все тянемся к призрачной и гибельной суете. И сквозь все ошибки, все беды, всю тщету и суету моего одинокого существования я протягиваю к тебе руки и говорю:
И. Емельянова
Легенды Потаповского переулка

Любить самоотверженно и беззаветно, с силой, равной квадрату дистанции, — дело наших сердец, пока мы дети.
Весенний день тридцатого апреля
С рассвета отдается детворе…
По-моему, это было именно тридцатого апреля.
Мне девять лет. На мне розовое парадное платье с бантами в тон. Привыкшая к военной и послевоенной бедности, я чувствую себя ужасно неловко. Но дело не только в платье. Сегодня у нас официальный прием — первый раз к нам в Потаповский должен прийти Б.Л., и от меня в связи с этим чего-то ждут.
Уже давно до наших детских ушей долетают суровые суждения бабушки о невозможном, немыслимом ни с какой точки зрения романе матери с женатым человеком («Моих лет!» — восклицает наша бабушка). Для нас не секрет и ее вечерние дежурства на балконе, когда между рядов «хмурых по случаю своего недосыпа» лип нашего двора (позднее я догадываюсь, что речь шла именно о них) долго бродят две фигуры — одна из них мать. Прощающиеся уходили во внутренний двор — бабушка перемещалась к другому окну, и все это до тех пор, пока громкий, рокочущий на весь переулок голос Б.Л. — «Посмотрите, какая-то женщина хочет выброситься с шестого этажа!» — не отгонял ее от наблюдательного пункта.
Кроме темных силуэтов между лип были и более ощутимые сигналы идущего где-то в другом мире романа: время от времени наша крохотная квартирка оглашалась призывными стуками, почти по системе Морзе, — стучали по радиатору ниже этажом наши соседи, счастливые обладатели редкостного в то время телефона, вызывая мать. Стукнув в ответ по вздувшейся от военной сырости стенке, мама мчалась вниз. Возвращалась не скоро, с лицом отсутствующим, погруженная в себя. В этих слухах, стуках, подглядываниях прошел первый год романа, и вот теперь, когда его неотвратимость осознана, совершается официальный прием.
Бедная мать волнуется. Боится за деда — милого, доброго, но, увы, безнадежно отставшего по своим поэтическим привязанностям «некрасовца», явного, даже воинственного антимодерниста. О страхе перед решительным характером бабушки и говорить нечего. Одна надежда на меня.
Накануне вечером мама долго читала мне стихи. «А теперь прочти ты. Я знаю, ты хорошо прочтешь». Я читаю: «Дрожат гаражи автобазы…» Почему-то я не могу понять в них ни слова. Даже наверняка знакомые мне слова — гараж, автобаза, попав в эти стихи, поворачиваются непривычной стороной, и мне кажется, что я вижу их впервые. Не узнав, я произношу с немыслимым ударением — гаражи. Мать расстраивается, но делать нечего.
На столе коньяк, шоколадные конфеты. Наверное, мама боялась, что обычное наше угощение покажется Б.Л. недостаточно интеллигентным, и морила его голодом.
Вот наконец и он. Девять лет — возраст, когда вполне возможно точно запомнить и описать впервые увиденного человека. Однако я не помню, каким увидела Б.Л. весной 1947 года, — осталось общее впечатление чего-то необычного: гудящий голос, опережающий собеседника; это знаменитое «да-да-да-да» «поверх барьеров», вне беседы, «ни к селу ни к городу»; смуглость, чернота волос (хотя он тогда уже начал седеть); странный африканский профиль… Во всяком случае, он мало походил на того легкого, седого, моложавого, красивого Б.Л., которого я видела так часто после 1953 года и чей образ вытеснил из моей памяти эту смесь «араба и его коня», представшую передо мной в апрельское утро 1947 года.
Мама говорит, что я пишу стихи, и я от стыда готова провалиться сквозь землю. Б.Л. обещает, что он обязательно посмотрит, только не сейчас. И вдруг на меня обрушивается целый монолог на тему о том, сколько вреда русскому стиху принесли он и Маяковский, как было бы хорошо, если бы они не занимались поэзией, а шили костюмы или подметали улицы. «Ну что вы, нет, нет, — бормочу я, будучи до предела воспитанным ребенком. — Этого не нужно, зачем… нет, что вы…»
Поэму свою я для него переписала: это была история испанской красавицы Изолины де Варгас. Но Б.Л. так и не прочел ее — больше «семейных приемов» не было, наступила пора «разрывов». Затем, правда, их снова бросало друг к другу. Ну а потом мамин арест, тюрьма, лагерь… Хотя именно в эти годы, когда мы Стали круглыми сиротами, Б.Л., чувствуя свою ответственность, свою невольную вину, часто интересовался моим «творчеством». (Я, слава богу, подросла и стала скрывать свои сочинения.) Вот одна сохранившаяся открытка, присланная мне в тот же Потаповский уже позже, когда мама отбывала свое в Мордовии, уже умер не выдержавший горя дед, мы были бедны и одиноки:
Мне всегда бывает некогда, и я тороплюсь, когда захожу к вам. Для того чтобы я мог прочесть твои стихи, о которых была речь зимой, и рассказ, надо, чтобы ты их переписала (от руки, конечно) и я их захватил с собой для прочтения. Сделай, пожалуйста, это в свободную минуту. Тогда я тебе напишу или на словах скажу свое мнение. Я уверен, что все это очень интересно и хорошо.
Не муки тайные злодейства
Я грозно в нем изображу,
Но просто вам перескажу
Преданья русского семейства.
Что же это было за семейство? Течение какой жизни, какого обихода нарушил нечаянной кометой ворвавшийся в ее атмосферу поток чужого существования?
Мама познакомилась с Б.Л. в 1946 году в редакции «Нового мира», где она тогда работала и куда он принес первую книгу романа «Доктор Живаго», называвшегося в то время «Мальчики и девочки». Матери немногим более тридцати, она очень хороша собой. И прелестный образ молодой женщины в беличьей шубке, шагнувшей ему навстречу, был сразу же «нарезом» проведен по его сердцу. Однако по ковровой дорожке «Нового мира» навстречу Б.Л. шагнула отнюдь не девочка, отнюдь не простодушная Гретхен, какой она показалась ему в тот знаменательный день.
В одну из первых их прогулок по площади Пушкина, когда мама, по ее собственным словам, не могла еще поверить, не могла отнести к себе туманные признания, прорывавшие поток темпераментной, захлебывающейся речи Б.Л., он ей сказал примерно следующее: «Вы не поверите, но я — такой, каким вы меня видите сейчас, старый, некрасивый, с ужасным подбородком, — но я был причиной стольких женских слез!» Мать не сделала ему ответного признания, но, вернувшись после объяснения домой, всю ночь не спала — описывала свое собственное непростое прошлое. Целую тетрадь исписала. И ей было о чем писать в этой тетрадке, и было от чего волноваться, когда она вручала ее при следующем свидании с Б.Л. Очень живо представляю себе, как обезоруживающе подействовала на него эта ее доверчивость, открытость и скольким Лара во второй части романа обязана материнской тетрадочке: отчаянностью, доверием судьбе, все перекрывающей жалостью.