Московские тюрьмы
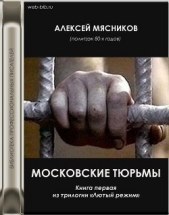
Московские тюрьмы читать книгу онлайн
Обыск, арест, тюрьма — такова была участь многих инакомыслящих вплоть до недавнего времени. Одни шли на спецзоны, в политлагеря, других заталкивали в камеры с уголовниками «на перевоспитание». Кто кого воспитывал — интересный вопрос, но вполне очевидно, что свершившаяся на наших глазах революция была подготовлена и выстрадана диссидентами. Кто они? За что их сажали? Как складывалась их судьба? Об этом на собственном опыте размышляет и рассказывает автор, социолог, журналист, кандидат философских наук — политзэк 80-х годов.
Помните, распевали «московских окон негасимый свет»? В камере свет не гаснет никогда. Это позволило автору многое увидеть и испытать из того, что сокрыто за тюремными стенами. И у читателя за страницами книги появляется редкая возможность войти в тот потаенный мир: посидеть в знаменитой тюрьме КГБ в Лефортово, пообщаться с надзирателями и уголовниками Матросской тишины и пересылки на Красной Пресне. Вместе с автором вы переживете всю прелесть нашего правосудия, а затем этап — в лагеря. Дай бог, чтобы это никогда и ни с кем больше не случилось, чтобы никто не страдал за свои убеждения, но пока не изжит произвол, пока существуют позорные тюрьмы — мы не вправе об этом не помнить.
Книга написана в 1985 году. Вскоре после освобождения. В ссыльных лесах, тайком, под «колпаком» (негласным надзором). И только сейчас появилась реальная надежда на публикацию. Ее объем около 20 п. л. Это первая книга из задуманной трилогии «Лютый режим». Далее пойдет речь о лагере, о «вольных» скитаниях изгоя — по сегодняшний день. Автор не обманет ожиданий читателя. Если, конечно, Москва-река не повернет свои воды вспять…
Есть четыре режима существования:
общий, усиленный, строгий, особый.
Общий обычно называют лютым.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Начинается торг. Ну, если все правильно и ничего не скрыто, следователь соглашается два года скинуть, т. е. получается не более восьми. Только тогда Леонардов вручает свой шедевр.
— Вот увидишь: доведу до шести, — говорит он мне.
— Как?
Он избегает прямого ответа, но дает понять, что откупится. Это значит даст деньги сверх арифметики расчетной наживы. Возможно, придется что-то продать, влезть в большие долги, но он был уверен, что на покупку двух лет свободы деньги найдутся. Через 8 месяцев на свердловской пересылке я встретил старичка из Лефортово. Он знал Леонардова и сказал, что тому действительно дали 6 лет. Старичок тоже отозвался о нем хорошо.
Эдик в Лефортово не впервой, и на этот раз сидел уже порядочно. С политическими не соприкасался, но среди прочих неплохо знал, кто здесь сидит и что происходит. Снова говорили о «рыбниках», о темном деле армян, обвиненных во взрывах в московском метро и приговоренных к расстрелу, об ограблении Ереванского банка и надписях в лефортовской душевой: «Прости брат!»; помню, я внимательно высматривал в душе эту надпись, хотя и знал, что ее уже не может быть, что она никак не могла сохраниться, а самих братьев-грабителей увезли, по слухам, в Бутырку дожидаться в камере смертников исполнения высшей меры. Подтвердились нехорошие сомнения о Сосновском. Когда тот обвинял в предательстве своих друзей, он больше всего ругал некоего своего близкого друга, который сидел где-то здесь, в Лефортово. Эдик хорошо знал этого человека, и как только я упомянул Сосновского, он не сдержался, лицо его скривилось от злобы: «Какой подонок! Ведь он сам всех вложил. Не только двух друзей, но и жен, даже на свою жену наплел. Продал Гарта, а сейчас, значит, сваливает на него, ну и мерзавец!». Эдик, оказывается, сидел вместе с Гартом и знает всю подноготную их дела. Никакого дела могло бы не быть, если бы еще до ареста Сосновский не струсил и в качестве свидетеля не наговорил бы лишнего. Он сдал, по крайней мере, человек 15 и так зарапортовался, что сам угодил в тюрьму и других потащил. Одни оказались на скамье подсудимых, другие проходили на суде свидетелями — друзья, любовницы, жены — и всех Сосновский поливал грязью. Гарт сидел рядом с Сосновским, он отказывался от показаний, ничего не сказал ни следователю, ни суду про Сосновского. Но на суде, когда жена Сосновского добавила на всех и своей грязи, Гарт не выдержал и достаточно громко при всех сказал Сосновскому: «Я е… твою жену. Это было тогда-то и там-то, спроси ее — она подтвердит». Вот почему Сосновский возненавидел Гарта и мстит сейчас, как только может. О личности и поведении Гарта Эдик отзывается с восхищением: «Держит стойку!». Гарт — кандидат наук, старший научный сотрудник института международного рабочего движения. По «блату» еще во время следствия специальным прокурорским постановлением ему устроили месяца три одиночки. Но Гарт, по словам Эдика, был молодцом: с веселой злостью переносил удары и не ломался, а только креп духом, становился еще злей и веселей.
Ежедневно медсестра приносила Эдику сердечные капли. Он протягивал в кормушку ложку и пока сестра отсчитывала капли, забавлял ее добрыми шутками. Но однажды возник скандал: вместо обычной сестры, совершавшей у нас обход, заявилась другая, о которой я уже слышал краем уха. Всю жизнь, говорят, торчит в этой тюрьме и славится утробной ненавистью к нашему брату. Ее прозвали Эльза Кох — в честь знаменитой изуверши из гитлеровского концлагеря. Она отклонила протянутую Эдиком ложку и потребовала кружку. Он сказал, что кружка занята, в ней чай:
— Ничего не знаю, положено в кружку.
— Чего вы выдумываете, мне все время капают в ложку!
— Есть инструкция.
— Но поймите, остается сильный запах, из чего я буду пить чай?
— Прекратите уговаривать! Я сказала: кружку! Или вообще не получите лекарства.
— Да какая вам разница?
— Кружку!
— Нет, в ложку! — психанул Эдик.
Кормушка захлопнулась. Таким Леонардова я еще не видел: красный, разъяренный, барабанит в дверь. Просит контролера позвать дежурного офицера. Тот пришел. Эдик поставил его в известность, что сестра отказалась выдать лекарство, и он будет жаловаться. Минут через 10 дежурный офицер приходит в камеру вместе с Эльзой. Она говорит, что есть инструкция, Эдик говорит, что нет. Дело было в воскресенье, большое начальство отсутствовало, и дежурный офицер принял соломоново решение:
— Сейчас я прошу вас принять лекарство в кружку, а завтра вы обратитесь к начальнику за разъяснением.
Эдик принимает почетный компромисс:
— Хорошо, но только потому, что вы лично об этом просите, а завтра я запишусь на прием к Поваренкову.
Он выплеснул чай и подал кружку и долго не мог успокоиться: «Всегда она так, садистка! — говорил Эдик. — Ей удовольствие назло зекам». Если бы он подал кружку, она потребовала бы ложку. Часто жаловались на нее, люди отвечали ей ненавистью. После какого-то крупного конфликта ее отстранили от обхода камер, но она продолжала работать в медпункте. Ее не увольняли, поговаривают, что она пользуется чьей-то высокой протекцией. Запомнился облик ее: пожилая, сдобная, внешне довольно благообразная дама с ухоженным, красивым когда-то лицом. Держится просто, но с достоинством. Эдик, горячился, а она спокойно и твердо стоит на своем. Лишь зная о ней, угадываешь в наружном покое холеного лица цинизм и холодное презрение. С каким наслаждением эта пристойная на вид тетушка дала бы не корвалолу, а яду, заколола бы отравленным шприцем, мучила и издевалась, будь ее воля, и притом с абсолютной невозмутимостью, разве легкий румянец выдал бы внутреннее удовольствие от чужого страдания; и как страшны должны быть боль и мучения жертвы, чтобы девичий румянец выступил на нежных щеках. Обыкновенное издевательство, скажем, порка, мордобой вряд ли всколыхнут ее чувства. Вот что может скрываться за благополучным фасадом доброй тетушки. Невозмутимость ее от презрения. Презрение так велико, что она не удостаивает показать даже ненависть, что она вообще что-либо может чувствовать при виде такой твари, как ты. Если уж нельзя досадить, то ты для нее ноль, вещь абсолютно безразличная — какие могут быть чувства? Лишь на секунду мелькнуло бритвенное лезвие в серых, красивых еще глазах. Тип, созданный для медицинских пыток и потаенных спецзаданий.
Наверное, этого нельзя сказать об основной части здешнего медперсонала. Меня водили на второй этаж к зубному врачу. Я боялся — впервые приходилось рвать зуб, а был наслышан, как это больно, видел, как корчатся люди. Но увидел врача и успокоился. Симпатичная, уверенная в себе женщина решительно усадила в кресло, спросила, замораживать или нет, четко и безболезненно воткнула в десну иглу, взяла щипцы и рванула. Зуб совсем прогнил, корень остался. Щипцы заскрежетали вглубь десны, как по дереву. А она перешучивается с контролером, словно пироги печет, И мне передалось, что зуб мой — совершенный пустяк, и было досадно, что два месяца трусил, терпел ненужную боль, которая в камере становится гулкой, преувеличенной и потому особенно раздражает. Обращение этой женщины по-медицински грубовато, она выговорила мне за запах чеснока, который я прикладывал ночью, чтобы заглушить боль, но доверие к ее профессионализму было полным и от других я слышал добрые отзывы о ней. Кроме больного зуба, у меня весь верхний и нижний ряд почему-то стачиваются у основания. Одна врачиха советует порошок, другая — пасту, в академической поликлинике назначили электрические процедуры, и все, кажется, без толку. Лефортовская врачиха сказала: «Болезнь века. Как следует не изучена. Но не беспокойтесь, с этими зубами проживете долго». На том бы и делу конец, ведь это не академическая поликлиника. Однако она назначает притирания. Несколько дней я ходил к ней лишь за тем, чтобы она, стоя передо мной, терла каким-то порошком мои зубы. Мне стало неловко, и я перестал ходить. Впоследствии лагерные врачи тоже предлагали эту же процедуру, но порошок давали с собой, и я тер сам, пока не надоедало. А вот лефортовская брала труд на себя. По-моему, это нечто такое, что выше профессионализма и врачебного долга.

























