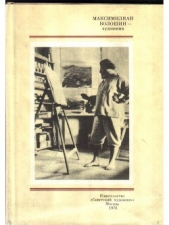Максимилиан Волошин, или себя забывший бог

Максимилиан Волошин, или себя забывший бог читать книгу онлайн
Неразгаданный сфинкс Серебряного века Максимилиан Волошин — поэт, художник, антропософ, масон, хозяин знаменитого Дома Поэта, поэтический летописец русской усобицы, миротворец белых и красных — по сей день возбуждает живой интерес и вызывает споры. Разрешить если не все, то многие из них поможет это первое объёмное жизнеописание поэта, включающее и всесторонний анализ его лучших творений. Всем своим творчеством Волошин пытался дать ответы на «проклятые» русские вопросы, и эти ответы не устроили ни белую, ни красную сторону. Не только блестящий поэт, но человек необычайной эрудиции, разносторонних увлечений, «внепартийной» доброты, в свою жизненную орбиту он вовлёк многих знаменитых людей той эпохи — от Д. Мережковского, 3. Гиппиус, Вяч. Иванова, М. Цветаевой, В. Ходасевича, О. Мандельштама, А. Толстого… до террориста Б. Савинкова, кровавого большевика Б. Куна и других видных практиков революции. Жизнь и творчество поэта — это запечатлённая хроника трагедии «России распятой».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В этой же связи нельзя не вспомнить и скандально-скабрёзную поэзию А. Тинякова, и бульварную повесть М. Кузмина «Крылья» (1905), и, наконец, положение Вячеслава Иванова о том, что, в сущности, вся человеческая деятельность сводится к Эросу, что эротика заменяет и этику, и эстетику, что всякое дерзновение, рождённое Эросом, свято…
Можно вспомнить и мастерскую художника Константина Сомова, которую нередко посещал его интимный друг поэт Михаил Кузмин. Вот как описала его Ирина Одоевцева (правда, уже в 1920 году) в книге «На берегах Невы»: «Принц эстетов, законодатель мод… В помятой, закапанной визитке, в каком-то бархатном, гоголевском жилете „в глазки и лапки“… Да, глаза действительно сверхъестественно велики. Как два провала, две бездны, но никак не два окна, распахнутые в рай. Как осенние озёра. Пожалуй, не как озёра, а как пруды, в которых водятся лягушки, тритоны и змеи. Таких глаз я действительно никогда не видела. И веки совсем особенные. Похожие на шторы, спускающиеся над окнами… Стёкла пенсне Кузмина, нетвёрдо сидящие на его носике и поблёскивающие при каждом движении головы. Может быть, беспрерывное поблёскивание стёкол и придаёт такую странность его глазам?
И вдруг я замечаю, что его глаза обведены широкими, как тушь, кругами, и губы густо, кроваво-красно накрашены. Мне становится не по себе. Нет, не фавн, а вурдалак: „На могиле кости гложет красногубый вурдалак…“ Я отворачиваюсь, чтобы не видеть его».
Ну а тогда, за четырнадцать лет до этого, другая женщина, Маргарита Сабашникова, с интересом наблюдала за Кузминым, слушая, как он читает свои «откровенные» стихи, перемежая их фрагментами столь же «откровенной» прозы. Возможно, это происходило так:
— Является Пазифая, слепая от страсти к быку, ужасная и пророческая: «Я не вижу ни пестроты нестройной жизни, ни стройности вешних сновидений». Все в ужасе. И тут падает Икар. Падает Фаэтон. Общее смятение. Огромные огненные цветы зацветают; птицы и животные ходят попарно…
Здесь же мы можем представить себе и композитора Владимира Ивановича Ребикова. Фигура и лицо опустившегося франта. Длинный лысый череп. Прядь волос зачёсана с затылка на лоб, так что остриём разделяет его посередине. Скошенный «вырождающийся» подбородок. Пенсне. Претензия на галантность. Он, как и Волошин, имеет отношение к Крыму — в Феодосии у него дача. Однако композитор и пианист не чужд символистским кругам, бывает в Петербурге. Поэтому вполне допустимо, что и в Северной столице музыкальный сноб произносит свои эпатажные монологи, которые Волошин, судя по дневниковым записям, услышит позднее, в Феодосии. Ребиков — Маргарите:
— Очень рад, давно хотел познакомиться. Я проповедую Орфизм в музыке. Так, чтобы и камни слушали. О да, Орфизм есть у всех… ведь все мы гении!
Маргарита — полуиронически:
— С недавнего времени я это тоже почувствовала.
Слышится голос Кузмина:
— В трепещущем розовом тумане виднеются сорок восемь образцов человеческих соединений…
Кто-то из гостей:
— Михаил Алексеевич, вы — русский Бальзак!
Макс, который, естественно, тоже здесь, морщится и забивается в тёмный угол комнаты. Звучат фразы:
— Кузмин — это маркиз, пришедший к нам из дали веков.
— Он выстрадал свою философию.
Кто-то обращается к Кузмину за советом:
— Те стихи, что я вам приносил… Как вы думаете, включать мне их в книгу?
— Почему же не включать? Зачем же тогда писали? Если сочинили — так и включайте.
Кто-то рядом сплетничает:
— А вы знаете, что Кузмина учил писать стихи Брюсов? Кузмину уже лет тридцать было…
— Да что вы?..
— Кузмин ему так и сказал: «Помилуйте, Валерий Яковлевич, как же сочинять? Я не умею. Мне рифм не подобрать…»
— Зато теперь-то уж…
Смеются. А Кузмин, словно что-то доказывая, читает:
Сквозь бормотание Ребикова слышится:
Обстановка располагает к подобного рода выступлениям: голубые обои, старинная, красного дерева мебель, хрустальная люстра в стиле бидермейер. На комоде — фарфоровый Дионис, белый, с гроздью синего винограда, окружённый яркой зелёной листвой…
Маргарита прислушивается к чтению Кузмина, а подвыпивший Ребиков возбужденно разглагольствует:
— Художник не должен жиреть. Надо быть несчастным. Влюбляться, но только без успеха. Если бы я был красивой женщиной, я бы в себя влюблял всех гениальных художников, а потом предлагал бы им револьвер: вот, пожалуйста, стреляйся, милый друг. Только в ногу. Впрочем, куда хочешь, только не в голову и не так, чтобы умереть.
Маргарите вспоминается писательница Нина Петровская, не очень красивая и очень несчастная женщина, которую Андрей Белый в своё время «очищал» и спасал от «испепеляющей роковой страсти» Бальмонта. Примешался сюда и третий, Валерий Брюсов, который, кажется, сам влюбился в Нину и предложил ей с помощью чёрной магии овладеть душой Белого. Потом вывел её в качестве героини одного из своих романов. Были переплетения страстей и даже, кстати, револьверный выстрел.
Тогда, в 1905 году, об этой истории в Москве немало говорили. Но именно сейчас она вдруг представилась Маргарите предметно, как на сцене…
Литературный вечер в Политехническом музее. В глубине сцены сидят Бальмонт, Белый и другие поэты. Только что закончил своё выступление Брюсов. К нему обращается кто-то из слушателей:
— Валерий Яковлевич, можно ли говорить о реальном прототипе вашего будущего романа?
— Видите ли, господа…
Брюсов замялся и взглянул на Андрея Белого, который явно смущен. В зале:
— Не хочет назвать Нину Петровскую…
— Да, попортил ей крови «Великий Маг»!
— Я слышал, что и Белый… Андрей Белый тоже руку приложил.
— Не только руку…
В проходе появляется молодая женщина с узким лицом. Руки почему-то в муфте. Она стремительно приближается к сцене. В зале — шёпот:
— Смотрите — Нина Петровская…
Публика оторопело наблюдает, как из муфты появляется маленький браунинг, дуло которого направлено в сторону сцены. Словно повинуясь какой-то силе, Андрей Белый подаётся на авансцену. Рука с браунингом протянута к его груди. Белый стоит на эстраде, картинно разведя руки… Сейчас раздастся выстрел… Но Нина Петровская переводит дуло на Брюсова. Общее замешательство. Тело Брюсова вытянуто в прыжке. Кто-то успевает схватить Нину за руку. Звучит выстрел. Пуля врезается в потолок… Брюсов отнимает браунинг… Расширенные, безумные глаза Нины. Она шепчет:
— И всё-таки я его убила… Его… и себя.
На сцене по-прежнему стоит Андрей Белый. На губах застыла страшная улыбка-оскал…
«Тройственный союз»… Андрей Белый — Нина Петровская — Валерий Брюсов… Александр Блок — Любовь Менделеева — Андрей Белый… Эротическое жизнетворчество, характерное для поэтической атмосферы начала XX века! Сама страсть понималась символистами как некая тайна, загадка, корни которой, писал Брюсов, «за миром людей, вне земного, нашего. Когда страсть владеет нами, мы близко от тех вечных граней, которыми обойдена наша „голубая тюрьма“, наша сферическая, плывущая во времена вселенная. Страсть — та точка, где земной мир прикасается к иным бытиям, всегда закрытая, но дверь в них». Отсюда — причудливые переплетения отношений, судеб, странные любовные союзы. Ведь страсть «не знает своего родословия, у неё нет подобных… Ценность страсти зависит не от нас, и мы ничего не можем изменить в ней. Страсть выше нас потому же, почему небо выше земли, которая в нём».
Отсюда же, по словам Владислава Ходасевича, «лихорадочная погоня за эмоциями, безразлично за какими. Все „переживания“ почитались благом, лишь бы их было много и они были сильны… Глубочайшая опустошённость оказывалась следствием этого эмоционального скопидомства. Скупые рыцари символизма умирали от духовного голода — на мешках накопленных „переживаний“… непрестанное стремление перестраивать мысль, жизнь, отношения, самый даже обиход свой по императиву очередного „переживания“ влекло символистов к непрестанному актёрству перед самими собой — к разыгрыванию собственной жизни как бы на театре жгучих импровизаций… Достаточно было быть влюблённым — и человек становился обеспечен всеми предметами первой лирической необходимости: Страстью, Отчаянием, Ликованием, Безумием, Пороком, Грехом, Ненавистью и т. д.».