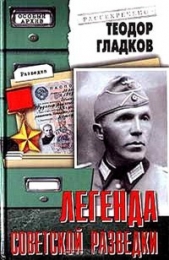Звать меня Кузнецов. Я один

Звать меня Кузнецов. Я один читать книгу онлайн
Эта книга посвящена памяти большого русского поэта Юрия Поликарповича Кузнецова (1941—2003).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Кузнецов всё понял и добиваться договора на перевод книги Беретаря не стал. Да и ни к чему ему это было. По правде говоря, он никогда не являлся большим поклонником таланта этого поэта. Беретарь, получив качественное образование на журфаке Московского университета, долго пытался соединить в своих стихах адыгское начало и московскую культуру, но так и не смог преодолеть советские каноны. Он во всём был уж очень традиционен. Это сказалось и на его диссертации о возникновении в Адыгее партийно-советской печати, и на стихах. Чувствовалось, что поэт постоянно был скован какими-то рамками. Ему не хватало буйства фантазии, некой размашистости. Главное достоинство Беретаря заключалось в другом — в исключительной порядочности.
Кстати, когда у Кузнецова появилась возможность самому выбирать авторов и тексты для переводов, он тактично уклонился от новой рукописи Беретаря, но при этом проследил за тем, чтобы подстрочники старшего товарища ни в коем случае не попали к халтурщикам. По настоянию поэта оригиналы были переданы Сергею Поликарпову, который, имея скромный дар, всё-таки знал толк в литературе. И чутьё Кузнецова не подвело. Книга Беретаря «Твой добрый друг» в переводах Поликарпова вышла в Москве в 1974 году и получила добрую прессу.
К сожалению, содружество Беретаря и Поликарпова просуществовало недолго. Главным переводчиком адыгейского поэта остался бывший одессит Игорь Халупский — человек со связями, очень усидчивый, но без божьей искры.
Надо отметить, что Беретарь оказался очень наивным человеком. Когда в 1991 году произошёл распад Советского Союза, а бывшие автономии по призыву Ельцина стали добиваться суверенитета, он думал, что это — благо. Поэт писал:
Но это был самообман. Кажущаяся свобода обернулась немыслимыми страданиями. А Беретарь в конце концов превратился в заурядного политолога, замкнувшегося к концу жизни в границах родного аула. Сузив свой мир только до Адыгеи, он в одночасье резко обеднил собственную поэзию и, грубо говоря, стал мало кому интересен.
Кузнецов, когда начинал собственную творческую судьбу, понимал, что в плане карьеры и устройства личных дел ему, наверное, следовало бы попросить для переводов стихи у Исхака Машбаша. К этому его, кстати, подталкивали и многие кубанские знакомые. Машбаш был крупным в Адыгее чиновником. Окончив в 1956 году Литинститут, он вернулся в Майкоп и возглавил в местной партийной газете отдел культуры. Спустя три года его выдвинули в обком партии, а затем направили на учёбу в Высшую партшколу. По времени начало партийной карьеры Машбаша совпало с расцветом литератур народов Северного Кавказа. На глазах выпускника Высшей партшколы в России, по сути, сложился культ четырёх авторов: Расула Гамзатова, Кайсына Кулиева, Алима Кешокова и Давида Кугультинова. Машбаш захотел стать пятым. Он считал, что для этого достаточно заиметь достойного переводчика. Творогова явно не тянула (она хотела сама больше писать, нежели переводить) и сильно уступала даже Елене Николаевской, а что говорить про мужиков — Семёна Липкина, Наума Гребнева или Якова Козловского. Безусловно, лучший вариант для Машбаша представлял Липкин. Может, как поэт он в чём-то и проигрывал. Но как переводчик — это была чуть ли не идеальная фигура. Липкин неплохо знал историю и культуру Востока. Он, кстати, ещё до войны увлёкся калмыцким эпосом. Не владея кавказскими наречиями, Липкин имел исследовательскую жилку. Но Липкину нельзя было отказать и в другом. Он имел чутьё. В Кугультинове он видел и мощь, и глубину, и смелость. Калмыцкий поэт никогда не прогибался под властью (во всяком случае до начала 1960-х годов он в этом замечен не был). Его не сломили даже норильские лагеря. Человек много лет сохранял достоинство. А Машбаш это важное качество быстро утратил. Он слишком рано превратился в приспособленца. Поэтому раздувать пустоту Липкин не собирался.
Машбаш догадывался, что с Липкиным или с Гребневым творческий союз у него вряд ли случится. Верил ли он в способности Кузнецова? В 60-е годы, в точности, нет. Хотя в 2003 году Машбаш публично утверждал, что никогда не сомневался в звезде Кузнецова. Но это он лукавил. Машбаш ведь всегда поклонялся уже состоявшимся авторитетам. Остальные представляли для него лишь рабочий материал, не более того. Но если носители сырья верно ему служили, они могли в перспективе рассчитывать на отдельные поблажки и протекцию.
Почему же Кузнецов ни в конце 60-х годов, ни позже так и не обратился к Машбашу? Он что, не нуждался ни в чьей протекции? Да нет, нуждался. Так, от своего учителя по Литинституту Сергея Наровчатова поэт всегда принимал любую помощь. Во многом благодаря ему он приобрёл связи в издательском мире и литературной среде. Очень Кузнецов был благодарен за поддержку Виктору Гончарову и Михаилу Львову. Да, ни Гончаров, ни Львов так и не стали поэтами первого ряда, хотя задатки для этого у них были. Но зато они сохранили человечность и благородство. А это совсем не мало. Но вот Машбаш изначально Кузнецову никогда доверия не внушал. Может, потому, что он слишком хорошо знал историю с крупнейшим адыгейским писателем Аскером Евтыхом. Это ведь Машбаш в своё время всё сделал, чтобы талантливого художника, написавшего два отчаянно смелых романа «Улица во всю её длину» и «Двери открыты настежь», выдавить из Адыгеи.
Отказавшись идти на поклон к Машбашу, Кузнецов взял в союзники Нальбия из рода Куёк. Не владея адыгейским языком, он на интуитивном уровне почувствовал в этом поэте значительного художника-авангардиста, который в своих творческих устремлениях продвинулся намного дальше черкесских коллег. Нальбий — это вам не Ааранук, всю жизнь косивший под адыгейского Маяковского, и не Тембот Керашев, много лет подражавший «Поднятой целине» Шолохова. Он был, что называется, сам с усам. Русский критик из Майкопа Кирилл Анкудинов с восхищением отмечал: «Необычной была даже его внешность: высокий, худощавый, с удлинённым лицом, он был похож на мудрого нарта или на легендарного адыгского философа Жабаги Казаноко».
Кузнецова Нальбий привлёк даже не своими неожиданными метафорами (сам Кузнецов, надо отметить, очень рано остыл к метафорам), а непривычным складом мышления. В отличие от праведника Беретаря, который редко когда выходил за рамки устоявшихся традиций, и уж конечно приспособленца Машбаша, Нальбий быстро избавился от набивших оскомину расхожих представлений о том, как всё плохо было в старину и какое счастье принесла на Кавказ советская власть. В этом плане Нальбий поступил как смельчак. Вольно или невольно, но он, по сути, бросил вызов системе.
Кузнецов, когда взялся переводить Нальбия, показал себя неплохим дипломатом. С одной стороны, он отдал дань древним обычаям. Зачины некоторых произведений поэт сознательно насытил этнографией, акцентировав внимание русского читателя на обязательных атрибутах адыгейского быта. Пример тому — заключительное стихотворение из сборника «Танец надежды». В переводе Кузнецова первые строки прозвучали как приглашение к разговору:
По логике далее поэт и переводчик должны были языком поэзии расписать все детали красочного танца тфокотля. Но нет, переводчик отказался от стереотипов. Он пошёл дальше, предприняв куда более сложную попытку — через танец понять характер народа. Оставив быт, Кузнецов вслед за Нальбием задумался о душе, выведя разговор совсем на другой уровень. Пространство и время для него оказались важнее, нежели этнографические детали.