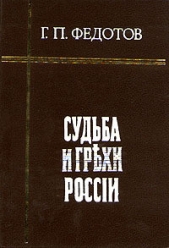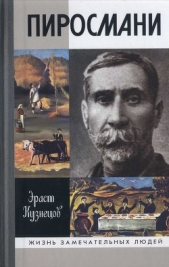Павел Федотов

Павел Федотов читать книгу онлайн
Книга воссоздает драматические обстоятельства жизни и творчества выдающегося русского живописца и графика первой половины XIX века Павла Федотова, автора знаменитых полотен «Сватовство майора», «Вдовушка», «Анкор, еще анкор!», «Игроки» и др. Черты личности художника вырисовываются в воспоминаниях современников, в собственных литературно-поэтических сочинениях Федотова и, главное, в его живописи.
Автор — известный искусствовед и историк Эраст Давидович Кузнецов, уделяя особое внимание уникальной роли Федотова в становлении русского бытового жанра, раскрывает смысл, своеобразие и значение его творчества.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Наконец, он заключил композицию картины в треугольник — любимейшую фигуру академистов, соединяющую надежную основательность с должной устремленностью вверх, и образовал этот треугольник весьма хитро и деликатно: от вершины, находящейся в том месте, где люстра крепилась к потолку, повел правую сторону через голову Отца и протянутую руку Свахи — все к тому же правому стулу; вторую же — через голову Дочери и стул с подносом — к стулу левому. Треугольник получился преотличнейший и, главное, почти равносторонний, который составлял извечную тщету всякого академиста. Тут Федотов мог быть доволен самим собою, тут ему никто бы не ткнул пальцем, пренебрежительно или снисходительно усмехаясь.
Все эти заботы о линиях, треугольниках, диагоналях да осях, столь серьезно занимавшие Федотова и на первый взгляд такие пустые рядом с той заботой о выразительности группировки, которую он проявил, — все они для него самого имели глубоко сокровенный смысл: он стремился к безупречному совершенству, которое не заменит никакой порыв артистического вдохновения. Все выходящее из-под его руки должно было быть именно таким — законченным и гармоничным, чтобы ни малости нельзя было сдвинуть, убрать, заменить без того, чтобы не нанести ущерба ладно сработанному целому. Тут сходились разом и самолюбие автора, и добросовестность мастера, и душевная потребность человека, упорно ищущего в мире красоты и совершенства.
Так, выстраивая и завязывая, соединяя и раздвигая фигуры, поверяя их расположение и глазом, и линейкой, переходя от варианта к варианту, он пришел наконец к композиции, которая его удовлетворила вполне. Основа была заложена, но предстояли новые трудности.
Каждый из персонажей, которых Федотов сначала совсем общо, потом все более определенно набрасывал в своих эскизах, в его воображении уже имел свою физиономию, сложившуюся из множества виденных и запомнившихся, и, сочиняя картину, он руководствовался этим представлением. Однако такого представления хватало для эскиза, но совершенно недостаточно было для картины. «Не знаю… могут быть такие счастливцы, которым воображение сейчас же дает нужный тип. Я не принадлежу к их числу, а может быть, и слишком добросовестен, чтобы игру фантазии выдавать за возможное…» Каждого героя надлежало отыскать еще в реальной жизни.
Путь оказывался непростым. Сначала наблюдения над множеством сходных людей приводили воображение к типу, нужному именно здесь, в данных обстоятельствах, потом от этого идеального, только в голове художника существующего типа, воображение шло обратно к действительности, подбирая в ней человека, возможно более близкого к тому, что ему виделся.
Порожденное жизнью, переплавленное и объединенное воображением, к жизни же и возвращалось. От живого к воображаемому, от воображаемого обратно к живому, и так по многу раз — жизнь и фантазия питали друг друга. Такой способ работать — Федотов нащупал его еще в первой картине и в полную силу использовал здесь — сделался впоследствии обыкновением в русской живописи XIX века. Федотова же ему никто не учил, да и не мог бы учить — дело было совершенно новое, и все приходилось открывать самому.
Продолжая компоновать картину и не придя еще к окончательному решению, он уже начал искать своих героев. Рыскал чуть ли не по всему Петербургу (Васильевского острова перестало хватать) — высматривал, приглядывался, принюхивался, прислушивался. Знал: его герои непременно должны были найтись, и они находились.
Одно соображение казалось ему особенно важным, и он следовал ему в своих поисках: «Быт московского купечества знакомее, чем быт купцов в Петербурге; рисуя фигуры добрых старых служителей, дядей, ключниц и кухарок, я, сам не зная почему, переношусь мыслью в Москву…» Наверно, содержится тут вполне естественное преувеличение, но что именно впечатления детства, проведенного в Москве, пробудили в Федотове жгучий интерес к изнаночной, неявленной стороне человеческой жизни и составили, как он сам выразился, «основной фонд» его дарования, — то это несомненно так. Тем более приложимы эти слова к «Сватовству майора». Михаил Погодин, отзываясь впоследствии о картине, совсем недаром обмолвился: «…завтра вам покажется, что не картину видели, а что были в гостях у этого купца на его квартире в Таганке…» — иными словами, воспринял все изображенное семейство как московское. В Петербурге купцы водились разные, и жизнь они вели разную, но среди них уже немало завелось таких, которые старались выглядеть негоциантами и коммерсантами. Федотову же необходим был иной пошиб — патриархальный, при котором потуга на светскость казалась бы особенно неуклюжей, как у медведя, танцующего кадриль. Этот пошиб был скорее московский.
Тут многое решал верно избранный Отец, глава семейства. Отца Федотов искал долго. Измаялся, бродя по Гостиному и Апраксину дворам, по Невскому проспекту, «присматриваясь к лицам купцов, прислушиваясь к их гонору и изучая их ухватки», пока, наконец, у Аничкова моста не встретил желанного. Проводил незаметно его до самого дома, выпытал у дворника имя, кое-какие привычки и разные полезные сведения о роде занятий и семье, потом сумел и познакомиться. «Волочился за ним целый год» — это уж явное преувеличение, года не могло быть, на всю картину ушло менее того, но преувеличение объяснимое — так намучился, уговаривая попозировать. Купец считал это занятие «грехом и дурным предзнаменованием», но в интересах дела Федотов умел становиться и вкрадчивым, и изворотливым, и настырным: допек-таки старика.
«Ни один счастливец, которому было назначено на Невском проспекте самое приятное рандеву, не мог более обрадоваться своей красавице, как я обрадовался моей рыжей бороде и толстому брюху», — вспоминал он потом, и в признании этом содержится более глубокий смысл, чем может показаться. Купец — ни сложением, ни лицом вовсе не Аполлон — был для него предметом эстетическим, способным заставить любоваться собою как всяким ярким явлением жизни, характерным типом. Таким Федотов и перенес его в картину, осветив своим ласковым отношением.
Да и все герои его будущей картины были ему по-своему милы. Он давно ушел от сепий, населенных малоприятными людишками. Ушел и от «Свежего кавалера» с его жалким и неприятным героем. Ушел и от «Разборчивой невесты», персонажи которой не вызывали горячей симпатии, хотя о них грех было бы судить худо. К новым своим образам он относился так же, как относился к живым, знакомым ему людям — сочувственно, терпимо, со снисходительностью хорошо понимающего их человека. Может быть, даже еще теплее, чем к живым: все-таки это были как-никак его создания, его дети, и он любил их, как любят детей, — кто хитроват, кто робок, кто прожорлив не в меру — но всех их любишь, видя их слабости.
Да, лицемерят, хитрят, плутуют — но вовсе не злые люди; они смешны, но не противны. Не они дурны, а жизнь дурна, однако другой им не дано, и с этой, заведенной от века и не ими, приходится сообразовываться. Что же дурного в том, что купец хочет выдать дочь за благородного — это ведь происходит в стране, где и благородный не вполне защищен от произвола, а уж купца любой квартальный может оттаскать за бороду (не Англия!).
И, право же, можно полукавить, сыграть невинную комедию, потрафить собственному самолюбию.
У каждого из них была своя правда, и каждого он понимал. Ту же Мать — крупную, преждевременно располневшую женщину, в чьем отяжелевшем лице легко видны остатки угасшей спокойной и ясной русской красоты. Пусть она и разоделась в не совсем идущее ей сияющее переливами атласное платье и на плечи накинула тонкую дорогую шаль, не изменив лишь обычаю повязывать голову платком. Но она обуяна материнским желанием пристроить получше дочь и проникнута ответственностью, которая лежит на ней: глыбисто-тяжеловесная, она кажется подлинной хозяйкой в доме, вертящей всем, как ей надо (домострой домостроем, а в реальной жизни все складывается порою куда сложнее). Она и перепуганную дочь приведет в чувство, и мужа незаметно одернет и направит, а тех, задержавшихся в углу у стола, удалит одним повелительным взглядом.