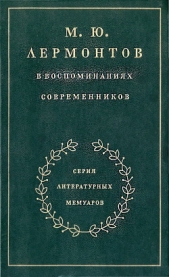В. Маяковский в воспоминаниях современников

В. Маяковский в воспоминаниях современников читать книгу онлайн
В этой книге собраны воспоминания о Владимире Маяковском его друзей, знакомых, сверстников, современников. Разные это люди, их отзывы далеко не во всем совпадают, подчас разноречиво сталкиваются. Но из многих "мозаичных" деталей складывается портрет – большой и неповторимый. Мы начинаем полнее ощущать обстоятельства – жизненные и литературные, – в которых рождались стихи поэта. Как бы ни были подчас пристрастны рассказы и отзывы современников – их не заменишь ничем, это живые свидетельства очевидцев.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Помню, раз я принес бытовую крестьянскую сценку "Чаепитие в саду". Он долго ее рассматривал, потом сказал:
– Ну, что же, рисунок хороший, только сохраните его себе на память. Это не пойдет. Нужно сделать так, чтобы рисунок звучал, а у вас он получился какой-то уж очень пассивный.
Энергичность выражения он очень ценил именно потому, что рассматривал рисунок как действенную, целенаправленную, агитационную композицию. Если рисунок доходит, действует, значит оправдывает себя; если нет, значит он не годится, как бы хорош сам по себе он ни был.
Много работали мы вместе для Чаеуправления. Владимир Владимирович взялся переменить весь этикетаж: он писал стихи для оберток, в которых продавался чай, кофе, цикорий и пр., и для иллюстрированных вкладок в жестяные коробки, в которых продавались высшие сорта чая. Я делал для этих оберток и вкладок рисунки.
Изображались, главным образом, сцены из крестьянской жизни, дореволюционной и современной: чаепития, праздник урожая, октябрины. Ряд тем был посвящен сельскохозяйственным коммунам. Словом, велась пропаганда новых форм быта.
Я немного стеснялся этих работ. Мне казалось, что они снижали меня как художника. Когда Владимир Владимирович замечал это, он страшно сердился:
– Позвольте, я заставлю вас подписать фамилию под этой цикорной оберткой. Уверяю вас, что она гораздо ценнее, чем все ваши произведения. Почему я могу подписываться под всеми стихами, которые я делаю для Моссельпрома и т. д., а вы, жрец искусства, считаете унизительным для себя такие работы и не можете снизойти до обслуживания широких масс? Эти обертки не менее, а более ценны, чем те картинки, которые вы пишете для выставок.
Порой с этими стихами и рисунками происходили катастрофы: заказчики их браковали, требовали переделок.
Обычно, если Владимир Владимирович сам относил и показывал эти вещи, то почти не бывало случая, чтобы он возвращался обратно с этими рисунками и стихами. Но все–таки такие случаи бывали, и тогда он говорил, что, конечно, потребителю нужно объяснить достоинство работы, нужно его сагитировать, иначе, хотя ему предлагаются и первоклассные вещи, он их не берет просто потому, что он к ним не привык.
Много таких разговоров было по поводу работ для Чаеуправления. Он ужасно ругался, когда от него требовали, чтобы новые упаковки обязательно были похожи на старые, дореволюционные образцы.
– Сколько я ни бьюсь с этими людьми, никак не могу им объяснить, что в новой обертке чай будут больше покупать, что новые рисунки вообще гораздо занимательнее и интереснее, чем какие-то несчастные китайцы, которых выдумывал Перлов.
Однажды он вернулся с непринятой работой и говорит:
– Черт их знает, говорят что "не цикорно". Ну, вот, поймите, что значит "не цикорно". А впрочем, это слово мне нравится. Обязательно запишу его.
В дальнейшем, если в работе что-нибудь не ладилось, он говорил:
– Что-то у вас сегодня "не цикорно" получается.
Вскоре после смерти Владимира Ильича Ленина Владимир Владимирович сказал мне:
– Ну вот, теперь мы, наверное, долго с вами не будем работать: я взялся за большую книгу о Ленине.
Однако работа наша прервалась не сразу. Как-то придя в рабочий кабинет Владимира Владимировича, в Лубянском проезде, где он писал "Ленина", я застал его за уборкой комнаты. Он очень тщательно подметал пол.
– Не выношу никакого сора в комнате, когда пишу. В особенности теперь. Вы знаете, что я пишу сейчас?
– Да, знаю.
На протяжении тех трех лет, что я проработал с Маяковским, часто приходилось выполнять заказы срочно. В таких случаях Владимир Владимирович вызывал меня, и я работал у него ночью. Когда мы оставались одни, он что-то писал, делал заметки, рылся в книгах, ходил по комнате, напевал или насвистывал, иногда подходил ко мне, вставлял замечания по поводу рисунков и опять продолжал заниматься своим делом.
Уставши, он присаживался ко мне, и я чувствовал, что ему хочется поговорить, отдохнуть. Разговоры всегда вертелись вокруг одного и того же – вокруг живописи.
Позднее только я понял, что Владимир Владимирович, отрицая тогда многие ценности старого искусства, восставал не против этих ценностей, а против их опошления, против мещанского понимания их.
Вскоре после объявления им известной "амнистии Рембрандту"1 я встретился с Владимиром Владимировичем в Наркомпросе.
– Что? Довольны вы, что я признал вашего Рембрандта?
– Ну, теперь он не только мой, он наш.
И тут он впервые заинтересовался моей живописной работой. Стал расспрашивать, что я делаю, что пишу и, главное, как я пишу. Узнав, что я стал писать по–новому, он спросил:
– Скажите, на что это похоже? На Рембрандта? На импрессионистов? Или на АХРР?
Владимир Владимирович при внешней жесткости был очень нежным, чутким человеком, человеком необычайной внутренней чистоты. Его внешняя манера говорить, его резкость была своего рода броней, за которой он прятал свою теплоту, свою нежность к людям. Казалось, что эту нежность он считал чем-то неприличным.
Он понимал человеческие слабости, но не выносил людской мерзости. У него было острое чутье: он всегда умел отличить своего от чужака, приспособленца.
Его поступки всегда носили характер очень принципиальный, в нем не было ничего мелочного, группового. А вокруг него часто создавалась обстановка чисто групповая.
Мне казалось, что Владимир Владимирович одинок среди своих соратников по Лефу. Он как-то был сам по себе, хотя был вожаком, лидером этой группы. Поэтому выход его из Лефа не был для меня неожиданностью.
Маяковский был художником революции. Революцию он любил великой, страстной любовью и был предан ей до конца. Эта страсть наполняла каждое его произведение и каждую, пусть самую черную, работу, которую он делал для революции, превращала в подлинное, высокое творчество.
1940
С. М. Третьяков . Вместе с Маяковским
Обычно мы с Маяковским писали так – я заготовлял стихотворение вчерне, и затем, прослушав его, он делал свои исправления, а то и брал домой для того, чтоб вставить целые строфы. Сейчас через тринадцать лет вспоминаются лишь частности, в целом же работа была так тесно переплетена, что отделить трудно. Следить за тем, что он поправит, имело двойной интерес – это была и корректура неоспоримого мастера, у которого я учился законам агит– и рекламстиха, а с другой стороны, здесь увлекало наблюдение за тем, как то или иное поэтическое задание оформляет поэт иного склада, чем ты сам.
Сейчас, конечно, трудно точно воспроизвести все поправки Маяковского, но кое–какие, поразившие в свое время воображение своей неожиданностью и верностью, остались в памяти.
"Новый хозяин в рабочей кепке",– написал я в "Рассказе про то, как узнал Фадей закон, защищающий рабочих людей".
"Новый хозяин – рабочий в кепке",– исправил Маяковский мой метафорический оборот на плакатно однозначный и недвусмысленный.
Я писал:
Пропорол рабочий хозяйский жилет,
пригвоздив штыком на нужное место.
Художник–плакатист, знающий цену рядом положенным чистым пятнам краски, Маяковский исправил "пригвоздив" на "пригвоздил".
У меня было:
Во всякой нужде, всякой беде
помощи лучшей не найдешь нигде.
Маяковский переделал:
Во всякой беде,
во всякой невязке
в завком направляйте шаг пролетарский.
У меня было по пункту о прозодежде написано:
Свою на заводе не стану трепать я,
Подавай, союз, рабочее платье.