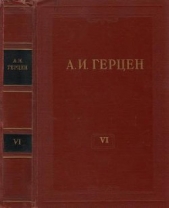С того берега
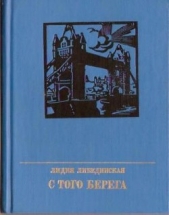
С того берега читать книгу онлайн
В жизни ушедших, и особенно ушедших давно, мы всегда ищем и находим цельность и замысел. Однако на самом деле человеческая судьба не только движется по прихотливой кривой, не только дробится на множество периодов, нередко противоречащих один другому, но даже сама кажущаяся цельность представляется разному глазу неодинаковой в зависимости от точки зрения.
Николай Платонович Огарев, незаурядный русский поэт и знаменитый революционер, не похож ни на его хрестоматийно сложившийся облик, ни на ту личность, что рисуется из статей врагов (предостаточно их было у него, как у всякого яркого человека), ни на тот сусальный, некрологически непогрешимый портрет, что проглядывает из ученых трактатов. Был он весьма разноликим, как все смертные, сложным и переменчивым. Много в нем верности и доброты, причем последнего чересчур. То и другое причиняло ему множество мелких бед и крупных несчастий, но они не только не сломили его, но даже не притупили два этих главных свойства. Верность и доброта сопутствовали ему до смерти. Что ж до цельности жизни, то на самом-то деле постоянно и неизменно испытывал он острые и глубокие терзания от естественной необходимости выбирать. И кажущаяся цельность судьбы — просто цельность натуры, всякий раз совершающей выбор, органичный душе и мировоззрению. Он никогда не лгал и делал выбор с глазами открытыми, всегда сам, кап и подобает свободному человеку, отчего и казался зачастую гибким и пластичным своим современникам, а подчас и весьма странным. Жил он в очень трудное время — но бывают ли времена легкие? Окружали его яркие и своеобычные люди. Нескольких современников его, знакомых с ним или незнакомых, нам никак не миновать, ибо нельзя восстановить облик человека вне той эпохи, в которую он жил, а эпоха — это люди, наполнявшие ее и ею наполненные. Люди, строившие свою судьбу и каждый раз делавшие свой выбор. Оттого, быть может, галерея современников часто больше говорит о человеке, нежели самое подробное описание его собственной жизни. К счастью, осталось много писем. И воспоминаний полным-полно. И архивы, где хранятся не только документы, но и труды, не увидевшие света в свое время. А что до любви к герою — сказать о ней должна сама книга.
Это книга об очень счастливом человеке. Больном эпилепсией, не раз обманувшемся в любви, об изгнаннике, более всего на свете любившем родину, человеке, который осмелился дерзнуть и добился права быть всегда самим собой.
Родился он в тринадцатом году прошлого века 24 ноября по старому стилю, в городе Санкт-Петербурге — упомянем об этом здесь, чтобы сразу же обратиться к его молодости.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Кельсиев рассказывал долго, все упирая в главное, что пора, пора, пора сплачивать, соединять и организовывать. Герцен очень внимательно его слушал, а потом сказал, усмехнувшись:
— Знаете, Василий Наполеонович, съездили вы, конечно, замечательно. Смелости вашей и отваге честь и хвала. Но пожалуйста, остыньте немного и давайте вместе поразмыслим. Нам отсюда не с руки и неприлично побуждать людей к риску. Это, впрочем, только первый пункт. А второй состоит в том, что сегодня именно государь меняет все российские порядки. Нам еще не совсем в разные стороны. Третье, что не менее существенно, в том состоит, что пути и цели наши не выработаны. А толкать других подниматься за что-то смутное нам никак не годится. Все от нас решения и указа требуют, а мне это представляется проявлением рабства. Там, в России, должен быть первый шаг сделан. Мы только зовем живых оглядеться и найти себя. А в генералы не годимся, да и не на что пока подниматься. Я уверен в этом, Василий Робеспьерович. А ты как считаешь, Ник?
— А я еще подумаю, Саша, — Огарев был явно с ним не согласен, и Кельсиев злорадно подумал, что это Бакунин поворачивает Николая Платоновича. И ушел, вовсе не приторможенный отказом Герцена, ибо ощущал в себе сейчас такие силы, что не нужны ему были эти старики, обомшелые от покоя и удаленности.
2
Странным, взбудораженным и многое определившим оказался этот год для Бенни. Поздней весной появилась в Петербурге прокламация «Молодая Россия». Отпечатанная во множестве экземпляров, полученная самыми разными людьми по почте, передаваемая из рук в руки, долго и всюду обсуждавшаяся, она породила первое беспокойство, тревожное ожидание событий, заведомо неприятных. Тон ее был вызывающий, содержание — удивляло и пугало одновременно. Вот что писалось там, к примеру, сразу за перечислением всяких российских неурядиц:
«Выход из этого гнетущего, страшного положения, губящего современного человека, и на борьбу с которым тратятся его лучшие силы, один — революция, революция кровавая и неумолимая, — революция, которая должна изменить радикально все, все без исключения, основы современного общества и погубить сторонников нынешнего порядка. Мы не страшимся ее, хотя и знаем, что прольется река крови, что погибнут, может быть, и невинные жертвы; мы предвидим все это и все-таки приветствуем ее наступление…»
И одновременно, словно исполнением изложенных в листке угроз и намерений, в Петербурге вспыхнули пожары. Начавшись в середине мая, продолжались они всего две недели, но и этого было достаточно. Около двух десятков пожаров (почти по два пожара пришлось на каждую часть города) потрясли столицу. А венцом был пожар Апраксина рынка, длившийся двое суток. Гигантское черное облако удушливого дыма висело над городом. Дул сильный ветер, и пылающие головни перелетали через Фонтанку на крыши домов, где день и ночь дежурили жители с водой. Пожарные обозы, густо скопившиеся вокруг, ничего не могли поделать, пожарники, хоть и падали от усталости, продолжали качать воду. На улицах ютились погорельцы. Не редела толпа любопытных и сочувствующих. Полицейский патруль с трудом отбил нескольких длинноволосых молодых людей, принятых за поджигателей. О пожарах писали все газеты.
Описанием пожаров полны мемуары, письма, книги того времени. Основное в них — не ужас перед огненной стихией, а страх перед неведомыми поджигателями. Мнение было единодушное, все считали, что поджигали студенты, настроенные революционно благодаря лондонской пропаганде, поляки, озлобленные и мстящие за унижение родины, и профессиональные революционеры, уже подготовленные лондонской печатью, а возможно, и специально засланные оттуда. Слухи ширились, варьировались, обрастали лживыми деталями, но главное в них было — страх, возмущение, негодование. Чувства эти разделялись всеми снизу доверху: толпой, либеральной интеллигенцией, чиновниками всех мастей. Сразу и резко все оказались воедино перед лицом бушующего огня, и странно и страшно читать письма и записки того времени.
Литератор, профессор, цензор, академик Никитенко (дневник): «В поджигательстве никто не сомневается… Несомненно, кажется, что пожары в связи с последними прокламациями».
Литератор Боткин (вчерашний друг Герцена и Огарева, участник их дружеского кружка) — Тургеневу: «Внутри России страшные пожары, и нет никакого сомнения, что поджигают поляки. Это месть за неудавшееся восстание… Эта бессильная злоба растравляет только ненависть русского народа».
Академик Куник — историку Погодину: «Настоящие совратители молодежи, от которых идет поджигательство, это журналисты».
Архимандрит Порфирий: «Пойманы поджигатели Петербурга — студенты здешнего университета. Открыт заговор. Заговорщиков восемьсот. В числе их есть и литераторы».
Журналист Катков (он же начинает открытую кампанию против издателей «Колокола»): «От петербургских пожаров отрекаются революционные агитаторы, — отрекаются с добродетельным жаром. Но все их отличие от простых поджигателей в том только и состоит, что те поджигают по мелочи, а они — в большом масштабе».
Тютчев — своей жене: «Теперь ясно, что горсть негодяев, одобряемая безнаказанностью, порешила перейти от слов к делу».
Профессор Кавелин (вчерашний друг, доброжелательный оппонент, корреспондент, мыслитель, видный публицист): «Боже великий! Да такой прогресс заслуживает только картечь и виселицу!»
Тургенев — Анненкову: «Страшно подумать, до чего может дойти реакция, и нельзя не сознаться, что она будет до некоторой степени оправдана. Государственная безопасность прежде всего».
В эти дни корреспондент газеты «Северная пчела» Артур Бенни писал: «Я только что возвратился с пожара или с пожаров — право, не знаю, как сказать. Впрочем, и ум, и тело утомлены непрерывной шестичасовой работой, а потому и слог мой не будет очень гладок и изящен».
Услышав в толпе гневливые толки о том, что поджигатели — студенты, Бенни крикнул, что это ложь, что студенты помогают гасить огонь, и вскочил на пожарную машину, заменив у помпы выбившегося из сил пожарника. Толпа была в восторге, но никто не вызвался помогать. До позднего вечера он простоял у помпы. На душе было смутно и тяжело. Будучи хорошо знаком со многими поляками (в том числе и с теми, кто уже организовывал восстание), он понимал, что они вовсе ни при чем. Бессильная ярость охватывала его, когда он слышал, что корни событий тянутся в Лондон — чем и как, да и кому мог он доказать безумие подобных предположений? И чуть с ума не сводила его единодушная (такая вдруг единодушная!) сплоченность всех (а ведь умнейшие, грамотнейшие люди, и проницательностью не обделила природа), кто еще вчера сочувствовал освободительным попыткам, откуда бы они ни шли, а сегодня, как испуганные дети к юбке матери, приникли вдруг к самым злостным охранительным мнениям. Решительный и энергичный, Бенни поступал всегда так, как диктовала его совесть и взбалмошный, честнейший характер. Он предложил генерал-полицеймейстеру города организовать добровольческие отряды для тушения пожаров — смысл был еще и в том, что работала в них молодежь, и таким образом снять с нее страшное подозрение. Газета поддержала его идею, генерал обещал посоветоваться наверху, а потом уклонился от ответа. Кто-то объяснил горестно недоумевающему Бенни, что на бедствие чиновникам наплевать, а если появятся добровольные дружины, то пойдут разговоры, что власти сами не в силах справиться со стихией, а такие толки куда страшнее огня. Дело было еще глубже, пожалуй, но Бенни и не смел подозревать до поры. Он метался, уговаривал, отчаивался, вызывая смех.
Месяц спустя, когда чуть утихло общее волнение, он шел, усталый и опустошенный, к себе домой, где поселились у него нахлебниками четверо молодых прогрессистов, принципиально не желавших трудиться. Они обирали и объедали его, вели пустые «освободительные» разговоры. Бенни понимал истинную им цену, но не хватало сил прогнать бездельников. Домой он шел нехотя и угрюмо.
Взвизгнув осью, прямо у тротуара остановились рядом с ним извозчичьи дрожки, из которых его окликнули полувопросительно: