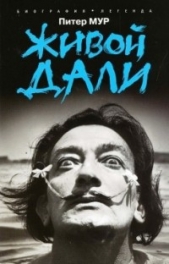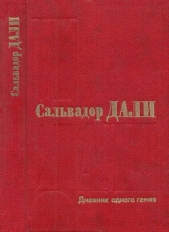Дали
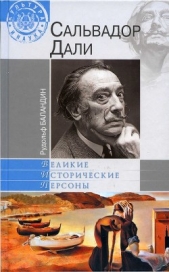
Дали читать книгу онлайн
Он был всемирно признанным чудаком — в полном соответствии с его целью будоражить и эпатировать, возмущать и восхищать публику. Создавая свои многочисленные картины, он играл со зрителем, предлагая разгадывать символы или находить изображения, возникающие из соединения разобщенных фигур. Он считал, что «в наше время, когда повсеместно торжествует посредственность, все значительное, все настоящее должно плыть или в стороне, или против течения». Имя ему — Сальвадор Дали.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Разгадка, мне кажется, в том, что философ упомянул о «самодовольном недоросле», из-за которого «человечеству грозит вырождение». «Этот тип человека, который живет, дабы делать то, что хочется. Обычное заблуждение маменькина сынка». Такой выпад Сальвадор имел все основания принять на свой счет.
И еще. Ортега заключил: «Европа утратила нравственность. Прежнюю массовый человек отверг не ради новой, а ради того, чтобы, согласно своему жизненному складу, не придерживаться никакой… Массовый человек попросту лишен морали, поскольку суть ее — всегда в подчинении чему-то, в сознании служения и долга».
Взбеленился Дали, пожалуй, потому, что оказался, согласно мысли Ортеги, типом массового человека. По сути, это было правдой, хотя воинствующий индивидуализм Дали очевиден. Но в том-то и дело, что в буржуазном обществе массовым становится именно воинствующий самодовольный недоросль-индивидуалист!
Однако в то время Дали разделял коммунистические убеждения, на которые ориентировалась группа Бретона. В 1931 году Сальвадор написал картину «Частичная галлюцинация: шесть явлений Ленина за фортепьяно». Седовласый юноша (автор всегда считал себя преждевременным старцем) сидит перед клавиатурой, на которой каждая октава завершается портретом Ленина в сияющем ореоле. Кратко это можно представить как рождение новой гармонии — революционной и победоносной.
А два года спустя на очередной выставке в Париже он показал свою картину «Загадка Вильгельма Телля», где образ Ленина представлен в карикатурном виде. У него длинный, как галстук, козырек кепки, для которого потребовался костыль. Мощные ноги, а одна ягодица вытянута на два метра, с подпоркой в виде обрубка дерева. На ней — кусок окровавленного мяса.
Оправдываясь перед сюрреалистами, Дали объяснял, будто изобразил своего отца, желающего съесть сына. Но у этого персонажа усы и бородка, отсутствовавшие у его отца. В одном из интервью сорок лет спустя Дали откровенно признался: «Сюрреализм отнюдь не мог помешать мне обращаться с Лениным как с образом, порожденным сновидением или бредом. Ленин и Гитлер, оба необычайно меня возбуждали, но Гитлер, безусловно, сильнее».
Странный характер был у Сальвадора Дали. При всем своем эгоизме и стремлении к славе он едва ли не боготворил крупных политических деятелей, поднявшихся на вершину власти, ведущих за собой миллионы. Он ни в коей мере им не завидовал. Сильные личности оказывали на него гипнотическое воздействие.
Так складывались его отношения с отцом, а затем и с Бретоном.
Какими бы независимыми ни выставляли себя деятели культуры Западной Европы, им приходилось делать выбор между сложившимся буржуазным обществом, первой в мире социалистической державой, созданной Лениным, и стремительно набиравшим мощь фашистским движением. Сальвадор Дали пытался увильнуть от трудного выбора.
В своих воспоминаниях он представил конфликт как проявление чисто эстетических симпатий и антипатий: «Моя живопись никогда не была по душе Бретону. Конечно, он понимал, что сделанное мной значительно и интересно, но радости это ему не доставляло. Мои картины были сильнее его теорий. Он оказался в тени, стал всего-навсего искусствоведом, а не пророком. И когда я швырнул ему в лицо МОДЕРН, Бретон остолбенел. Пока он превозносил первобытную поэзию, я показал, что искусство конца века не имеет себе равных, о чем бы ни зашла речь — об эротике, бреде, тревоге или тайне. Я вновь ввел в моду прически, платья, песни и всякие мелочи той эпохи — они имели ошеломительный успех. И эта горечь жгла Бретона, хотя об этом нашем расхождении он не упомянул. Уж и не помню, на каком пункте его обвинений я скинул пятый свитер — становилось просто невмоготу.
Восстал я и против автоматического письма, доведенного до абсурдных степеней, и против записи сновидений, которые все сильнее напоминали сны выжившего из ума склеротика. Все эти правила и приемчики, вытеснения одних стереотипов другими требовали только известной ловкости рук, и ничего более. Попытки разобраться в неведомых глубинах подсознания в итоге оказались разнузданным самолюбованием.
Я сюрреалист до мозга костей, и ни цензура, ни логика мне не указ. Ни страх, ни мораль, ни общественные потрясения так и не смогли подчинить меня своим законам. Если ты сюрреалист, считайся с собой, и только с собой. Запрет над тобой не властен…
Попирая коленями кучу своих свитеров, я поклялся, что не был врагом пролетариата, что плевать я на него хотел, ибо нет и не было среди моих знакомых никого, кто носил бы сие славное имя, хотя я водил дружбу с самыми обездоленными людьми на земле — с рыбаками Кадакеса, почитавшими свою жизнь за счастье. Глядя на них, я не раз задумывался о марксистах: «Воистину не ведают они, что творят своей революцией!»
Я обратил это абсурдное судилище в истинно сюрреалистическое действо. Бретон мне этого так никогда и не простил, но урок пошел впрок — больше он не прибегал к таким санкциям, опасаясь, что ему снова испортят песню».
Был ли Дали тогда болен или играл эту роль? Был ли он искренен или притворялся? Верил ли ему Бретон и прочие члены группы, или они тоже разыгрывали представление? Насколько серьезно само по себе такое судилище?
Все это — вопросы без убедительных ответов. Дали был неплохим актером, легко входящим в разные роли. Он уже добился популярности, его картины обсуждались и неплохо раскупались. Бретон оставался теоретическим лидером движения, но, по его позднему признанию, «на протяжении трех или четырех лет Дали был воплощением сюрреалистического духа и представлял его во всем блеске».
Нельзя не заметить, что дух этот был слишком часто нечистым, а изображались дурно пахнущие испражнения. Можно горестно вздохнуть: ничего не поделаешь, такова реальность!
Да, реальность многолика и многообразна, а художник волен выбирать близкие его уму и сердцу объекты, образы, символы. Если его обуревают именно такие бредовые картины, то почему бы не показать их во всей красе или неприглядности? Примерно так рассуждал Дали:
«Человеку, этому законченному мечтателю, в котором день ото дня растет недовольство собственной судьбой, теперь уже с трудом удается обозреть предметы, которыми он вынужден пользоваться… Отныне его удел — величайшая скромность: он знает, какими женщинами обладал, в каких смешных ситуациях побывал; богатство и бедность для него — пустяк; в этом смысле он остается только что родившимся младенцем, а что касается суда совести, то я вполне допускаю, что он может обойтись и без него».
Такова его позиция или поза? Пожалуй, принципиальная позиция. Вот только богатство для Дали — не пустяк. Отныне окружающая действительность для него интересна лишь как источник благ для себя и Галы. О художнике — имея в виду себя — он пишет: «Если он сохраняет некоторую ясность взгляда, то лишь затем, чтобы оглянуться на собственное детство, которое не теряет для него очарования, как бы ни было оно искалечено заботами многочисленных дрессировщиков. Именно в детстве, в силу отсутствия всякого принуждения, перед человеком открывается возможность прожить несколько жизней одновременно, и он целиком погружается в эту иллюзию; он хочет, чтобы любая вещь давалась ему предельно легко, немедленно. Каждое утро дети просыпаются в полной безмятежности…»
Неужели так происходит со всеми детьми каждое утро? И дальше: «Им все доступно, самые скверные материальные условия кажутся превосходными».
Да, у него было так. Но у множества детей было совершенно иначе! Учтем: это он пишет в 1941 году, после гражданской войны в Испании, после захвата фашистами почти всей Западной и Центральной Европы. Он имеет в виду не свое детство, а детей вообще. Его обобщение — вне суда совести: она молчит, убаюканная славой и богатством.
Для этого есть веское оправдание: «Единственное, что еще может меня вдохновить, так это слово «свобода». Я считаю, что оно способно безраздельно поддерживать древний людской фанатизм. Оно, бесспорно, отвечает тому единственному упованию, на которое я имею право. Следует признать, что среди множества доставшихся нам в наследство невзгод нам была предоставлена и величайшая свобода духа. Мы недостаточно ею злоупотребляем. Принудить воображение к рабству — хотя бы даже во имя того, что мы столь неточно называем счастьем, — значит уклониться от всего, что, в глубине нашего существа, причастно к идее высшей справедливости».