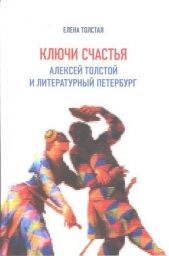Алексей Толстой. Красный шут.

Алексей Толстой. Красный шут. читать книгу онлайн
Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие. Но более всего Толстой был тружеником, и в русской литературе останутся два его романа, повесть о детстве и сказка, которую будут читать всегда.
Писатель и историк литературы Алексей Варламов, автор жизнеописаний Михаила Пришвина и Александра Грина, создает в своем биографическом повествовании удивительный образ этого необъятного человека на фоне фантастической эпохи, в которой "третьему Толстому" выпало жить.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
То, что я пожал руку Толстому, вызвало не только сильный, но даже бурный протест у одного из наиболее идейных и твердых парижских эсеров. “Если оправдывать Толстого, — говорил он мне через несколько дней в редакции «Современных записок», — выступающего в России с требованием смертной казни, а в Англии с требованием свободы печати, то кого же в мире можно еще обвинять?”
Как я ни пытался объяснить моему строгому судье, что отказ от предъявления человеку каких-либо нравственных обвинений решительно не имеет ничего общего с его оправданием (скорее уж наоборот), он этого понять не мог и не без труда протянул мне на прощание свою честную демократическую руку».
Этим эсером мог быть, скорей всего, М.В. Вишняк. А Толстой, как и четырнадцать лет назад, вольно или невольно вносил в эмиграцию смуту и раздор. Осенью 1936 года Марк Алданов сообщал Амфитеатрову (тому самому Амфитеатрову, которому много лет назад нахваливал юного Толстого Горький): «Кстати, об Алешке. Месяца два тому назад Бунин и я зашли вечером в кафе “Вебер” — и наткнулись на самого А.Н. Толстого (с его новой женой). Он нас увидел издали и послал записку. Бунин, суди его Бог, возобновил знакомство, а я нет — и думаю, что поступил правильно. Мы с Алексеем Толстым были когда-то на “ты” и три года прожили в Париже, встречаясь каждый день. Не спорю, что меня встреча с ним (то есть на расстоянии 10 метров) после пятнадцати лет взволновала. Но говорить с ним мне было бы очень тяжело, и я воздержался: остался у своего столика. Он Бунина спрашивает: “Что же, Марк меня считает подлецом?” Бунин отвечал: “Что ты, что ты!” Так я с новой женой Алешки и не познакомился. Об этом инциденте было здесь немало разговоров. Но, разумеется, это никак не для печати. Кажется, Бунин сожалеет, что не поступил, как я».
Упоминание молодой жены Толстого не случайно. Людмила Ильинична сопровождала мужа везде. Вероятно, это было чем-то вроде одной из статей негласного брачного контракта (Крандиевскую Толстой не взял за рубеж ни разу), но примечательно, что когда в июне 1937 года была арестована Наталья Сац, один из вопросов, который задавал ей следователь, касался подозрительно часто путешествующей по миру Людмилы Ильиничны Толстой, и имя ее упоминалось в одном ряду с Михаилом Кольцовым. Последствий этот интерес ни для Толстого, ни для его молодой жены не имел, но косвенно все это свидетельствует о непрочности толстовского семейного счастья.
Еще одним доказательством зыбкости Толстого стало письмо члена Политбюро ЦК А.А. Андреева Сталину по поводу внесенного в ЦК списка писателей, представленных к награждению государственными наградами.
«В распоряжении НКВД имеются компрометирующие в той или иной степени материалы на следующих писателей…», — писал Андреев, а дальше следовал список, в котором значился и Алексей Толстой. Сопровождалось это все, впрочем, припиской: «Необходимо отметить, что ничего нового, неизвестного до этого ЦК ВКП (б) эти материалы не дают»11.
Орден Толстому вручили, и не однажды, но компромат на него имелся, и в последний раз всплыл уже в самом конце его жизни, о чем речь еще пойдет. А что касается Марка Алданова, то он вообще очень недобро смотрел на Толстого, блестящий вид которого мозолил глаза обнищавшим русским писателям, и об оборотной стороне его богатства не задумывался. «Эмиграция нигде не в моде (также и эмигранты немецкие, австрийские и другие, Генрих Манн, по слухам, бедствует). Советские же писатели процветают. Алешка Толстой имеет в СССР миллионный доход и, как говорят, считается “фаворитом” на Нобелевскую премию этого года!» — писал он Амфитеатрову.
«Эмигрантство есть драма и школа смирения, — как будто отвечая ему, писал Борис Зайцев. — Это разговор длинный, отдельный. Драму свою эмигрант-литератор знает. Но вот речь зашла о российских собратьях, о воспоминаниях, о чужих судьбах. Могут спросить — как же относится здешний писатель к ремеслу своему в России: жалеет ли, что с Толстым не поехал, завидует ли дачам, автомобилям и тысячам?
Ответ простой (за себя): не жалеет. Каждый живет, как ему следует. “Сии на конях, сии на колесницах, а мы именем Господа Бога нашего”. Одни банкиры и миллионеры, а другие пешочком или в метро. И без вилл. Это ничего. Зато вольны. О чем хочется писать — пишут. Что любят, того не боятся любить. Какой образ художника получили в рождении, какой дар у кого есть, тот и стараются пронести до могилы. В меру сил приумножить. А богатство, успех… Нет, зависти нет.
Есть другое. За многое мы жалеем собратьев наших. Жалостью не высокомерною, а человеческой. Мы желаем им хартию вольности, желаем тем из них, кто художники, а не дельцы, чтобы их художество могло процветать свободно. Чтобы страшный склад жизни не уродовал человека. Чтобы голоса стали людскими, а не граммофонными. Чтобы они ничего не боялись».
С Толстым в Париже Зайцев не встречался, не стремился, да и Толстой не испытывал желания видеть человека, с которым когда-то они были по-своему близки. Зайцев так и остался, по меркам графа, незначительной фигурой в мире литературы, а Толстой работал по-крупному. Его уровень — это Бунин, Куприн.
О встрече Толстого с первым нобелевским лауреатом, с кем не виделся он до этого четырнадцать лет и кто единственный в эмиграции мог поспорить с ним своими успехами и признанием, писал не только Алданов, но и сам Бунин. И никакого сожаления не высказывал. Скорее наоборот. В феврале 1950 года он объяснял в письме к Андрею Седых суть своих отношений с Толстым:
«Когда я был “дружен” с Толстым, он был не только не хуже других (Горького, Андреева, Бальмонта, Брюсова и т. д.), но лучше — уже хотя бы потому, что был в сто раз откровеннее их. Это было до его возвращения в Москву. И на ты я был с ним только в последние месяцы его жизни в Париже.
А Марк Александрович гораздо дальше, — Марк Александрович человек на редкость щепетильный. И это было вполне понятно: столько было в Толстом талантливости и шарма!»
А дальше рассказывал уже сам Седых: «В моих записных книжках за 1936 год есть рассказ о случайной встрече И.А. Бунина и М.А. Алданова в Париже с А.Н. Толстым. Встретились в кафе на Монпарнасе. Произошла заминка. Наконец Бунин подошел к Толстому. Облобызались… Алданов, также очень друживший с автором “Петра Первого”, отказался подойти и подать ему руку. И поступил он, как показало дальнейшее, совершенно правильно.
Бунин просидел с Толстым весь вечер. “Алешка” расточал комплименты и звал вернуться в Москву.
— По твоим, брат, книгам учатся все молодые советские писатели… Да тебя примут с триумфом…
Бунин слушал, улыбался и, как всегда, когда не знал, как ответить, немного иронически говорил:
— Мерси, мерси!
Прошли две или три недели. В “Литературной газете” появились заграничные впечатления Алексея Толстого. Писал он примерно так: “Встретил случайно Бунина. Он был этой встрече рад. Боже, что стало с этим когда-то талантливым писателем! От него осталось только имя, какая-то кожура” и т. д.
Дальше следовали еще 20 строк в таком же духе12. Очень чувствительного Ивана Алексеевича эти впечатления не могли оставить равнодушным… Думаю, именно тогда и родилась у него мысль написать «Третьего Толстого», которую осуществил он только пятнадцать лет спустя. Но, как говорят французы, la vengeance est un plat que l’on mange froid (месть — это блюдо, которое надо есть холодным)».
Про холодное блюдо все правильно, но только «Третий Толстой» — никакая не месть. И то, что Бунин Толстому не отомстил, хотя мог бы (дневниковые записи Бунина о Толстом намного жестче мемуаров) — свидетельство не только широты его вкусов, но и благородства и просто любви, какой Бунин любил очень немногих — Льва Толстого, Чехова, отчасти Куприна.
«Особой нежностью пропитаны его высказывания об “Алешке” Толстом, ему он прощает многое, что не простил бы, пожалуй, никому, — писал А.Бахрах, автор книги “Бунин в халате”. — Ценил его не только как писателя, но отчасти и как человека, хоть и насквозь знал его проделки и измышления. “Что с Алешки взять”, — неоднократно говорил Бунин».