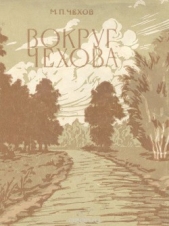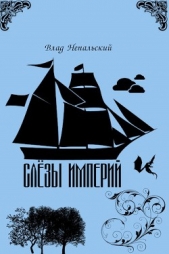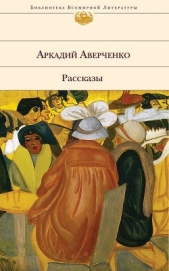Воспоминания современников об А. П. Чехове

Воспоминания современников об А. П. Чехове читать книгу онлайн
В книгу вошли воспоминания Гиляровского, Короленко, Репина, Станиславского, Немировича-Данченко, Горького, Бунина, Куприна и многих других современников Антона Павловича Чехова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Кто это говорит? Ветер? Или тот, кто сидит сзади?
Как только они останавливаются, так все обычно, буднично, и лицо спутника равнодушно.
Я летела с горы в Москве. Я летела и раньше. Я слышала не один раз: «Я люблю вас». Но проходило самое короткое время, и все становилось буднично, обычно, а письма Антона Павловича холодны и равнодушны.
Кажется, рассказ Чехова называется «Шутка».
Антон Павлович не приехал весной в Петербург, осенью его послали доктора в Ниццу. Он писал мне оттуда: «За границей я проживу, вероятно, всю зиму». Писал еще: «Здоровье мое сносно по утрам и великолепно по вечерам».
Это он писал в октябре. А в начале ноября: «Пока была холодная погода, все было благополучно, теперь же, когда идет дождь и посуровело, опять першит, опять показалась кровь, такая подлость».
Я посылала ему свои напечатанные рассказы, а он давал мне подробные отзывы.
«Ах, Лидия Алексеевна, с каким удовольствием я прочел Ваши „Забытые письма“. Это хорошая, умная, изящная вещь. Это маленькая, куцая вещь, но в ней пропасть искусства и таланта, и я не понимаю, почему Вы не продолжаете именно в этом роде. Письма — это неудачная, скучная форма, и притом легкая, но я говорю про тон, искреннее, почти страстное чувство, изящную фразу. Гольцев был прав, когда говорил, что у Вас симпатичный талант, и если Вы до сих пор не верите этому, то потому, что сами виноваты. Вы работаете очень мало, лениво. Я тоже ленивый хохол, но ведь в сравнении с Вами я написал целые горы. Кроме „Забытых писем“, во всех рассказах так и прут между строк неопытность, неуверенность, лень. Вы до сих пор не набили себе руку, как говорится, и работаете как начинающая, точно барышня, пишущая по фарфору. Пейзаж Вы чувствуете, он у Вас хорош, но Вы не умеете экономить, и то и дело он попадается на глаза, когда не нужно, и даже один рассказ совсем исчезает под массой пейзажных обломков, которые грудой навалены на всем протяжении от начала рассказа до (почти) его середины. Затем, Вы не работаете над фразой, ее надо делать — в этом искусство. Надо выбрасывать лишнее, очищать фразу от „по мере того“, „при помощи“, надо заботиться о ее музыкальности и не допускать в одной фразе почти рядом „стала“ и „перестала“. Голубушка, ведь такие словечки, как „безупречная“, „на изломе“, „в лабиринте“, — ведь это одно оскорбление. Я допускаю еще рядом „казался“ и „касался“, но „безупречная“ — это шероховато, неловко и годится только для разговорного языка, и шероховатость Вы должны чувствовать, так как Вы музыкальны и чутки, чему свидетели — „Забытые письма“. Газеты с Вашими рассказами сохраню и пришлю Вам при оказии, а Вы, не обращая внимания на мою критику, соберите еще кое-что и пришлите мне».
Я была плохая ученица и стала ясно понимать советы Антона Павловича позже, когда сама дошла до потребности «слушать» то, что я вижу, и не употреблять первые попавшиеся под перо слова, годные по смыслу, а выбирать их так, чтобы не было «оскорбления». Но несомненно, что эта потребность явилась именно из-за критики Чехова. Если я ее и не поняла нутром тогда же, то толчок она мне дала в желательном направлении, и если из меня все же ничего не вышло, то это только оттого, что я была талантливое ничтожество.
Я была убеждена, что Чехов понял это, так же, как и я, и относится ко мне иначе, чем прежде, и когда я писала ему, я чувствовала себя навязчивой, но не могла прервать переписку, как не могла бы наложить на себя руки.
На лето Антон Павлович вернулся в Россию, и в конце июля я получила от него следующее письмо:
«Гостей так много, что никак не могу собраться ответить на Ваше последнее письмо. Хочется написать подлиннее, но руки отнимаются при мысли, что каждую минуту могут войти и помешать. И в самом деле, пока я пишу эти слова „помешать“, вошла девочка и доложила, что пришел больной. Надо идти.
Финансовый вопрос уже решен благополучно. Я вырезал из „Осколков“ мои мелкие рассказы и продал их Сытину на 10 лет. Затем, как оказывается, могу взять тысячу руб. из „Рус. мысли“, где, кстати сказать, мне сделали прибавку. Платили 250, а теперь 300.
Мне опротивело писать, и я не знаю, что делать. Я охотно бы занялся медициной, взял бы какое-нибудь место, но уже не хватает физической гибкости.
Когда я теперь пишу или думаю о том, что надо писать, то у меня такое отвращение, как будто я ем щи, из которых вынули таракана, — простите за сравнение. Противно мне не самое писание, а этот литературный entourage, от которого никуда не спрячешься и который носишь с собой всюду, как земля носит свою атмосферу.
Погода у нас чудесная, не хочется никуда уезжать. Надо писать для августовской „Русской мысли“; уже написал, надо кончить. Будьте здоровы и благополучны. Нет места для крысиного хвоста, пусть подпись будет куцей.
Ваш Чехов».
Я ждала августовскую книгу «Русской мысли» с большим волнением. В письмах Чехова я привыкла угадывать многое между строк, и теперь мне представилось, что он усиленно обращает мое внимание на августовскую книгу, хочет, чтобы я ее скорей прочла. Трудно объяснить, почему мне так казалось, но это было так. И едва книга вышла, я купила ее, а не взяла в библиотеке, как я обыкновенно это делала.
Одно заглавие «О любви» сильно взволновало меня. Я бежала домой с книгой в руке и делала предположения. Что «О любви» касалось меня, я не сомневалась, но что он мог написать?
«Вот я сейчас прочту художественную оценку своей личности, — думала я. — И поделом!».
Зачем, после свидания в клинике, когда он был «слаб и не владел собой», а мне уже нельзя было не увериться, что он любит меня, — зачем мне надо было писать ему в Ниццу, послать «Забытые письма», полные страсти, любви и тоски? Разве мог он не понять, что это к нему взывали все эти чувства? Зачем я это сделала, тогда как уже твердо знала, что ничего, ничего я ему дать не могу?
Теперь я прочту свой приговор.
В Мишином кабинете за письменным столом я разрезала книгу и стала читать.
Как это было трудно! Любовь повара и горничной. Она не хочет выходить за него замуж, а хочет жить «так», а он не хочет жить «так», потому что религиозен.
Совсем не этого я ожидала! При чем тут повар и горничная?
Но вот Луганович приглашает к себе Алехина, и появляется его жена, Анна Алексеевна. У нее недавно родился ребенок, она молода, красива и производит на Алехина сильное впечатление. «Анна Алексеевна Луганович…» Мои инициалы. У меня тоже был маленький ребенок, когда мы познакомились с Антоном Павловичем.
«И сразу я почувствовал в ней существо близкое, уже знакомое…»
Мне сейчас же вспомнилось:
«А не кажется вам, что когда мы встретились в первый раз, мы не познакомились, а нашли друг друга после долгой разлуки?»
Это спросил Антон Павлович на юбилейном обеде.
И я читала нетерпеливо, жадно.
«…Мне некогда было даже подумать о городе, но воспоминание о стройной белокурой женщине оставалось во мне все дни, я не думал о ней, но точно легкая тень ее лежала на моей душе».
Через страницу, уже после второго свидания, Алехин говорил:
«Я был несчастлив. И дома, и в поле, и в сарае я думал о ней…»
Тяжелые капли слез стали падать на бумагу, а я спешно вытирала глаза, чтобы можно было продолжать читать.
«Мы подолгу говорили, молчали, но мы не признавались друг другу в нашей любви и скрывали ее робко, ревниво. Мы боялись всего, что могло бы открыть нашу тайну нам же самим. Я любил нежно, глубоко, но я рассуждал, я спрашивал себя, к чему может повести наша любовь, если у нас не хватит сил бороться с ней, мне казалось невероятным, что эта моя тихая грустная любовь вдруг грубо оборвет счастливое течение жизни ее мужа, детей, всего дома… Честно ли это?.. Что было бы с ней в случае моей болезни, смерти?..»
«И она, по-видимому, рассуждала подобным же образом. Она думала о муже, о детях…»
Я уже не плакала, а рыдала, захлебываясь, и книга стала вся мокрая и сморщенная. Так он не винил меня! Не винил, а оправдывал, понимал, горевал вместе со мной.