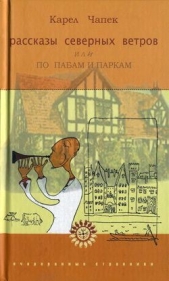Хорошо посидели!

Хорошо посидели! читать книгу онлайн
Даниил Аль — известный ученый и писатель. Его тюремные и лагерные воспоминания посвящены людям, которые оставались людьми в сталинских тюрьмах и лагерях. Там жили и умирали, страдали и надеялись, любили и ревновали, дружили и враждовали…
Поскольку юмор, возникающий в недрах жизненной драмы, только подчеркивает драматизм и даже трагизм происходящего, читатель найдет в книге много смешного и веселого.
Следует подчеркнуть важнейшее достоинство книги, написанной на столь острую тему: автор ничего не вымышляет и ничем не дополняет сохранившееся в его памяти.
Книга написана живым образным языком и вызовет интерес у широкого круга читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На основании своего опыта я пришел к такому объяснению: человек в принципе изначально доверчив, изначально склонен воспринимать предлагаемую ему информацию как объективную и охотно ее принимает, если нет потока иной, опровергающей или корректирующей информации из других источников. Массовое предрасположение людей к восприятию в качестве истины всевозможных, порой самых невероятных слухов, легенд и мифов имеет, надо полагать, ту же природу — изначального доверия к информации. Человек предрасположен верить тому, что обладает положительным, добрым знаком. Срабатывает инстинкт самосохранения, оберегания своего сознания от тяжелых эмоций, отталкивания от себя дурных известий. К сожалению, во все времена эта предрасположенность человека верить в хорошее («все будет хорошо, все будет по наилучшему варианту») постоянно наскакивала на безжалостные рифы реальности, о которые порой с треском и грохотом разбивались и светлые надежды, и благостные верования, и — всего чаще — личное доверие. Но, пожалуй, нигде человека так сильно не подводит доверчивость, как в лагере. Обман, эксплуатация доверчивости являются здесь постоянным способом выживания одних за счет других. В полном объеме я с этим столкнулся позже. А пока, в карантине, я с полной доверчивостью воспринимал многие рассказы и советы. Правда, в данном случае Сергею, рассказывающему мне о том, как он прикончил тещу, от меня ничего не было нужно, кроме доверия к его рассказу. Выходит, доверие, сочувствие со стороны вовсе незнакомого и уж ничем не полезного для рассказчика человека, сами по себе являются человеческими ценностями, без которых самая заскорузлая душа обходиться не может и которые она старается заполучить ценой хоть и не тяжелого, но все же труда — труда довольно долгого, обстоятельного, доказательного рассказывания.
Слева от меня лежал другой убийца, по кличке Костя-морячок. Этот здоровый молодой парень лет двадцати двух — двадцати трех и впрямь был в прошлом военным моряком. На нем были черные матросские брюки с откидным клапаном спереди, тельняшка и мичманская морская фуражка. Поверх тельняшки на нем был надет не морской, а лагерный бушлат, свидетельствовавший, что прибыл Костя не с флота, а из другого лагеря. Оно так и было. «Морячок» прибыл в Каргопольлаг из какого-то другого лагеря после суда, получив новый срок за убийство заключенного, то ли случайно в драке, то ли умышленно. Его рассказ об этом я не особенно запомнил. Помню лишь, что Костя-морячок изображал себя не убийцей, а борцом за справедливость, убившим некоего «гада», который только того и заслуживал, чтобы быть убитым.
О Косте-морячке я еще расскажу, но не о том, кого и как он убил в том лагере, откуда прибыл, а о том, как убили его на моих глазах средь бела дня, примерно через год после нашего с ним пребывания в карантине.
Обряд моего «крещения» в «ЗК»
Прибывшего в карантин заключенного охватывает странное, можно сказать, обманчивое чувство свободы. Оно объясняется прежде всего тем, что человек оказался в иной обстановке после того, как отсидел много месяцев в каменном мешке тюрьмы, в четырех стенах между каменным полом и низким потолком камеры, вместе всего лишь с двумя-тремя людьми, за железной дверью с «глазком», через который за ним день и ночь наблюдал коридорный надзиратель, где в течение всего дня он не мог не только прилечь, но и присесть на свою койку, поднятую и прикрепленную к стене, где он не имел права сомкнуть глаза и подремать, даже сидя на привинченной к стене возле железного столика, тоже привинченного к стене, квадратной железной скамеечке, где небо видно только через решетку верхней части небольшого окна, нижняя часть которого забрана ящиком-козырьком.
В карантине вокруг тебя много людей — человек тридцать. Из карантинного барака можно выйти во дворик, из которого видна не только остальная зона, но виден и обступивший высокий лагерный забор вековой лес. Можно слышать его «зеленый шум», можно слышать гудки паровозов и шум проходящих поездов, можно видеть и слышать птиц. Никогда раньше я не думал, что вид прохаживающейся вблизи от тебя обычной вороны или суетящейся вокруг кусочка брошенного хлеба стайки воробьев может так взволновать ощущением — будто ты находишься на свободе, так же, как эти воробьи и эта ворона. Да и сам вид открытого пространства — того же леса и неба — тоже способствует появлению этого ощущения.
Разумеется, столкновение с реальными «прелестями» лагерной жизни — с тяжелым, порой изнурительным каторжным трудом, с продолжающейся изоляцией от семьи, от любимых занятий, от нормальной жизни, и принудительным сосуществованием вместе с уголовниками и другими чуждыми, а то и враждебными тебе людьми, с режимом содержания тебя с помощью заборов, «колючки», собак, конвоиров с автоматами. — все это, разумеется, быстро похоронит обманное ощущение некоторого выхода на свободу, появляющееся временами в карантине.
Наши лагерные аборигены из числа «политических», то есть «пятьдесятвосьмушников», придумали своеобразный обряд «крещения» новичков, разом, еще в карантинный период, отрезвляющий их от каких-либо иллюзий насчет той «свободы», в которой они обречены пребывать долгие, долгие годы.
В карантин к вновь прибывшим сразу же приходили знакомиться лагерные старожилы. К ворам — воры, к политическим — политические.
Вот и ко мне в один из первых дней моего пребывания в карантине пришли гости: заведующий баней нашего лагпункта — полковник-артиллерист, преподаватель ленинградской Артиллерийской академии Лазарь Львович Окунь — милейший человек, в будущем мой большой друг, и два студента из Москвы. Один из них — Юра Макаров — слушатель военной Авиационной академии и другой — студент Московского университета Слава Стороженко — ныне профессор, академик, если не ошибаюсь, Экологической академии. Когда мы познакомились и поговорили, новые знакомые предложили мне сходить куда-то, недалеко от карантина, на очень интересное мероприятие.
Договорившись с помощью какой-то мзды с дежурившим в карантинной проходной вором Мишкой Лобановым, они вывели меня из карантина и предложили подойти к ближайшей охранной вышке, на которой стоял часовой в синей фуражке и с винтовкой. Подходить к охранным вышкам, стоявшим на четырех углах квадрата территории, занятой нашим лагпунктом, на расстоянии километра одна от другой, можно было довольно близко, до самой «запретки» — полосы свежераспаханной земли, шедшей вдоль всех четырех сторон высокого, увенчанного колючей проволокой забора. Часовой должен был стрелять на поражение и без всякого предупреждения в любого, кто попытается вступить на «запретку», отделенную от территории лагеря рядами «колючки», висящей на деревянных кольях. Ничто из того, что происходит в самом лагере внутри «запретки» — какие-либо передвижения, драки, пожар или еще что-либо, — часового на вышке не касается.
Зачем меня сюда привели мои новые друзья, я не понимал. Ничего не происходило. Стоявший на вышке часовой, как мне показалось, какой-то монгол, не обратил на нас ни малейшего внимания.
— Зачем вы меня сюда привели, — спросил я у своих новых знакомых.
— Сейчас узнаете. — Полковник Окунь взглянул на свои наручные часы. — Без двух минут восемь, — продолжил он. — Сейчас узнаете.
Ровно в восемь раздались тяжелые шаги по ступеням не видной нам деревянной лестницы, ведшей на вышку с той стороны забора. На вышку поднялся разводящий — какой-то сержант или старшина с синими с белым погончиками и в синей фуражке. Вслед за ним вступил на вышку новый часовой.
Старшина скомандовал: «Смирно!» Оба солдата вытянулись, глядя друг на друга.
— Пост по охране врагов народа сдал! — рявкнул монгол, поднеся руку к фуражке.
— Пост по охране врагов народа принял! — ответил новый часовой.
На этом вся процедура окончилась, и разводящий увел сменившегося часового.
Мои новые знакомые молча и, как мне показалось, с усмешкой смотрели на меня. Они на собственном опыте знали, какое впечатление должно была произвести на новичка это обычное, ежедневное, рутинное действо.