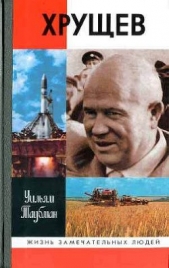Те десять лет

Те десять лет читать книгу онлайн
В основе книги свидетельства очевидца, участника событий, общественной жизни нашей страны на рубеже 50-х и 60-х годов; того времени, которое иногда именуют «десятилетием Хрущева».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В 1924 году родился я, а в 1926 мать и отец расстались. Иван Савельевич уехал в Ленинград. Петь он не мог, мешали раны, полученные на фронте. Стал преподавать вокал. И преуспел в этом. «Ставить голос» к Ивану Савельевичу приезжали многие певцы из Москвы, других городов.
Мой сосед по дому, народный артист СССР Павел Герасимович Лисициан, как только мы поселились в одном подъезде, спросил: не сын ли я Ивана Савельевича Аджу-бея? Оказалось, он тоже учился у отца. «Иван Савельевич, — рассказывал Лисициан, — вел занятия очень строго: лупил по кожаной подушке на рояле палкой и кричал: «Обопри дыхание на диафрагму…»
Уж коли я пустился в плаванье по семейному морю, расскажу и о том, как очутилась в Самарканде моя мама — в ней текла украинская и русская кровь, с некоторыми «добавками» польской и армянской.
Мама родилась во Владикавказе, а когда ей исполнилось восемь лет, было это в 1906 году, всю семью выслали в колонию в Самарканд — мамин отец и его братья сочувствовали социал-демократам. Видно, материальное положение семьи стало ненадежным. Маму и брата Георгия, моего дядю, определили в монастырский приют.
Я очень любил маму. Она часто говорила, что ненавидит свою портняжную профессию, что ей надоели кичливые бабы, которых она вынуждена одевать. Но это «вынуждена» исчезало начисто, когда Нина Матвеевна брала в руки большие ножницы и безо всяких мелков, «на глаз» разрезала куски нарядных тканей. Алексей Толстой как-то увидел маму в работе, заехав в мастерскую со своей женой Людмилой Ильиничной, и прислал ей книгу «Хождение по мукам» с дарственной надписью: «Великому мастеру Нине Гупало. Алексей Толстой».
И еще мама была щедрой. Деньги для нее существовали только для того, чтобы их с охотой тратить. Когда Елене Сергеевне Булгаковой бывало «не по средствам» одеваться у Гупало, Нина Матвеевна говорила: «Бросьте, Алена, о деньгах — сочтемся».
Когда материальное положение Елены Сергеевны поправилось — а это случилось после издания книги «Мастер и Маргарита» во многих странах мира, — она была подчеркнуто щедра к маме. Эта щедрость выражалась в еженедельных посылках блоков импортных сигарет — другие подарки мама не принимала. Елена Сергеевна оставалась единственной женщиной, которой Нина Матвеевна разрешала приехать на «совет», когда мама уже тяжело болела. Елена Сергеевна умерла за полгода до смерти Нины Матвеевны, осенью 1970 года. Не успела вкусить сполна ни славы, ни богатства. Умерла, как и мама, в одночасье.
Какой-то магнит притягивал этих женщин друг к другу, быть может, умная бесшабашность и уверенность в своих силах.
Второй муж матери — Михаил Александрович Гапеев вошел в мою детскую жизнь как дядя Миша. Мы дружили с ним. Он служил юрисконсультом, занимался организацией юридической службы в хлопковых трестах Средней Азии. Мы часто переезжали из города в город. Жили в Бухаре, Новом Кагане, а в зиму 1931 года уехали в Караганду.
Дядя Миша держал себя со мной по-мужски, «на равных», случалось, защищал от суровых наказаний матери — она хоть и не часто, но умело работала ремнем.
Зима 1931 года в Караганде проходила ужасно. Жили мы в каменном барачного типа доме для ИТР. Вьюга так заносила входную дверь, что по утрам Михаил Александрович с трудом открывал ее и обнаруживал в сугробах замерзших. Голодные люди искали спасения у дверей человеческого жилья, но их голоса поглощала вьюга…
Михаил Александрович приехал в Караганду по просьбе своего старшего брата профессора-угольщика, занимавшегося карагандинским угольным бассейном в начале 20-х годов. Он должен был наладить хозяйственно-юридическую службу, а затем мы собирались переехать в Москву.
В начале лета 1932 года Михаил Александрович заболел тифом и, так как никакой серьезной медицинской помощи больные не получали, умер. Мама решила искать счастья в Москве. На несколько месяцев мы остановились у Александра Александровича Гапеева, старшего брата дяди Миши.
В начале 30-х с жильем в Москве была полная катастрофа. С трудом нам удалось снять «угол» в переполненной коммунальной квартире, в районе Таганской площади, на Воронцовской улице. Трехэтажный особняк, где мы поселились, принадлежал некогда графу Воронцову. Эта улица до сих пор — Воронцовская, по-видимому, городские власти упустили из виду «аристократическое происхождение» ее названия.
Наша хозяйка Александра Васильевна работала трамвайным кондуктором и растила двух дочерей — Зою и Аню. Она отгородила фанерой часть своей комнаты, навесила легкую картонную дверь и положила за проживание ежемесячную плату в 160 рублей. По тем временам — немалые деньги, почти половина того, что мать зарабатывала, но иного выхода у нас не было. Мать устроилась портнихой в модное тогда ателье «Всекохудожник» и, чтобы содержать семью, пропадала на работе с утра до ночи. В ту пору в Москве властвовали три закройщицы: Батова, Данилина и Ефимова. Очень скоро они позволили Нине Матвеевне занять место рядом с собой. Батова, грубоватая, не чуравшаяся рюмки, сказала: «Становись, Нина, к закройному столу, набирай бригаду, ты еще нас обойдешь».
В большой кухне нашей квартиры шипели и отравляли воздух два десятка примусов и керосинок, стены и потолок усеивали тучи рыжих тараканов. Однако убогое жилье да и быт не отражались на настроении жильцов, не помню, чтобы вспыхивали крупные ссоры, разве что перебранка, если кем-нибудь нарушались сроки уборки мест общего пользования: коридора, крошечного клозета и ванной, в которой стояла дровяная колонка. Топили ее по очереди: мылись по три семьи в вечер. В 1937 году приехала в Москву из Самарканда моя бабушка Мария Матвеевна. Мне стелили постель на столе, бабушка спала на крошечном диване, а мама располагалась на полу в узком проходе.
Москва оглушила меня. Я долго скучал по Самарканду, маленькому саду за домом, где рос урюк, черешня, несколько виноградных лоз. Перед домом — раскидистые тутовые деревья. Когда поспевала приторно-сладкая белая или почти черная ягода, жильцы выносили простыни, натягивали их под ветками и трясли деревья. Потом приходило время грецких орехов. Мальчишки срывали их и очищали плотную зеленую мясистую кожуру о камни. Пальцы у нас при этом становились коричневыми, как у заядлых курильщиков, и не отмывались до поздней осени.
Вечером на Ургуцкую улицу приходил поливальщик. Он шел вдоль арыка и, орудуя лопатой-черпаком, бросал воду на мягкую песчаную мостовую. Улица становилась прохладной, и мы носились босиком по этой упругой, холодившей ноги, земле…
В Москве, за особняком графа Воронцова, тоже располагался сад, некогда плодоносящий, но куда ему было до щедрого южного собрата. Культурные яблони выродились. Остались только дички, упрямые и жизнестойкие, как все дети вольной природы. Едва начинали краснеть кислые сморщенные яблоки, как мальчишки и девчонки срывали их и наедались до резей в желудке.
Нашим главным развлечением был трамвай. Лихое занятие — прыгнуть на ходу на заднюю площадку второго или третьего вагона. Кондуктор зорко наблюдала за акробатическими прыжками мальчишек. Дергала протянутую под потолком вагона веревку — подавала звонком сигнал вагоновожатому. Случалось, остановив трамвай, вагоновожатый и кондукторша старались поймать нарушителя, бежали за ним до ближайшей подворотни и кричали вслед: «Поймаем, уши оторвем!» Но никакой спринтер не мог бы изловить ловких мальчишек с Таганки.
В квартире, где я жил, кроме меня, мальчиков не было. Дочери нашей хозяйки Зоя и Аня садились вечерами на подоконник и пели под гитару. Они хорошо знали все песни Лидии Руслановой и Клавдии Шульженко. Пели и плакали от томившей их тоски по любви.
Две другие девушки-«коммуналки» считались интеллигентками. У Лели отец — инженер-строитель, у Нины — отец и мать именовали себя счетными работниками, попросту говоря, были бухгалтерами. Когда у Зои родился ребенок, пришлось освободить «угол». Нас приютили Емельяновы, Лелина семья. Ее мама Нина Антоновна и она сама стали для меня родными людьми.
В начале 50-х годов мы с женой навещали Нину Антоновну — маленькую хлопотливую старушку, угощавшую нас чаем с сахарином. Бывало, я просил у Нины Антоновны спички, она долго рылась в своем чуланчике, приносила коробочку — и сахарин, и спички хранились у нее с 20-х годов, от нэпа. Нина Антоновна очень боялась повторения голода и запаслась «дефицитом» до самой смерти.