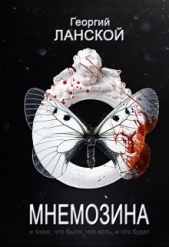Таков мой век

Таков мой век читать книгу онлайн
Мемуары выдающейся писательницы и журналистки русского зарубежья Зинаиды Алексеевны Шаховской охватывают почти полстолетия — с 1910 по 1950 г. Эпоха, о которой пишет автор, вобрала в себя наиболее трагические социальные потрясения и сломы ушедшего столетия. Свидетельница двух мировых войн, революции, исхода русской эмиграции, Шаховская оставила правдивые, живые и блестяще написанные воспоминания. Мемуары выходили в свет на французском языке с 1964 по 1967 г. четырьмя отдельными книгами под общим подзаголовком «Таков мой век». Русский перевод воспоминаний, объединенных в одно издание, печатается впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В те дни, когда она желала оставить сына при себе, я бежала к собственной матери. Стучалась в окно, и она открывала мне. Комнатка ее казалась совсем уж тесной из-за чемоданов, вызволенных из «Астории» ее друзьями. Вид у нее был озабоченный, часто грустный, и мне трудно было примириться с этим новым для меня выражением ее лица. Я начинала понимать то, что по моему легкомыслию забывала вдали от нее: ее мучили материальные заботы. С дочерьми она была разлучена, сын подвергал себя новым опасностям. Свобода ее и даже жизнь висели на волоске. Что станет с нами, если ее арестуют?
Моя мать штопала мне белье, ужасалась, видя, как я вырастаю из платьев, заменить которые было нечем. Когда она заметила, что у меня снова воспалились глаза и стали выпадать ресницы, что из-за неправильного питания у меня на лице шелушилась кожа, а из-за нехватки мыла я подцепила чесотку, которой страдала молодая служанка, она забрала меня к себе. Она хотела бы взять и Наташу, но это было невозможно. Жить было очень трудно. Моя мать давала несколько французских уроков, и среди ее учеников был Колосовский, который преподавал мне в Институте украинский язык. Заикаясь, он вселял надежду в наши сердца, передавая нам слухи о том, что коммунистические войска терпели одно поражение за другим.
Не помню как, но дочери слепого доктора, которому принадлежал дом, узнали настоящую фамилию моей матери. Оберегая свою безопасность, они хотели отказать нам в квартире. Из-за этого происходили частые ссоры, сцены, драмы… Моя мать плакала, я бросалась ей на помощь, угрожая обеим женщинам не только Божьей карой, но и личной моей местью.
Первые месяцы 1919 года полнились противоречивыми слухами. Кто одержит победу на кровавой шахматной доске, которую являла собой русская земля? В Харькове начинался террор.
Я часто думала о смерти. Ночью, если я просыпалась, я боялась только одного: что моя мать перестала дышать. Я прислушивалась, ловила малейшее движение, малейший вздох, подтверждающий, что она жива — и не выдерживала, двигала стулом, кашляла; наконец, одержимая тревогой, звала ее. Услышав шорох одеял, скрип кровати, успокаивалась и засыпала…
Наступила весна, и я томилась в тесной комнатушке, из которой зимой выходила редко. Теперь я могла выйти на улицу, бродить по садам и скверам, которых в Харькове было так много. Как-то раз я познакомилась с двумя девочками моего возраста; поиграв, мы уселись на скамейку; я стала рассказывать им разные истории. Но мы говорили на разных языках и, увы, не понимали друг друга. На другой день, когда я побежала на свидание, назначенное с новыми моими подругами, их на месте не оказалось.
Я брожу по саду. Деревья пьяны от набухающих почек, по газонам прыгают дрозды… Я спускаюсь в овражек, на дне которого протекает ручей. Обе девочки здесь, они прыгают через скакалку.
— Здравствуйте! — говорю я. Но их лица хмуры. Одна, заметив меня, удаляется прочь. Вторая собирается последовать за ней, но останавливается и говорит мне:
— Мы больше с тобой играть не будем. Ты сумасшедшая.
Сумасшедшая? Мне хотелось бы знать, почему у них сложилось такое впечатление. Разве я похожа на деревенскую дурочку Дуню, которая бродила по Проне одетая в лохмотья — несчастное косоглазое существо, пускающее слюни? Чем я отличалась от других детей? Безответный вопрос, от которого оставалась одна горечь.
Мне хотелось движения, хотелось какого-то общества. С завистью смотрела я на скаутские сборы: мальчики и девочки проводили время вместе, играли, пели. Я попросила у матери разрешения к ним присоединиться, и моему отшельничеству наступил конец. В голодном и запуганном Харькове наша организация, превращенная силой обстоятельств в комсомольскую, тем не менее оставалась враждебной режиму. Нашим руководителем был верный России малоросс. Всяческими ухищрениями он не давал втянуть нас в марксистское русло. Когда коммунисты говорили ему, чтобы наши отряды участвовали в их демонстрации, он отвечал, что, увы, мы накануне ушли в поход. Из старой простыни мать одного из новых моих товарищей сшила мне форменную рубашку. На ногах у меня случали, как копыта пони, сандалии на деревянной подошве. С рюкзаками за спиной мальчики и девочки отправлялись по дорогам, ведущим к зеленому поясу лесов, окружающих город. Питались мы кулешом — пшенной кашей, сваренной на костре и пахнувшей дымом. В более сытные дни мы варили в золе картошку и добавляли к ней ломтик домашнего сала. Еще было холодно, и я всегда вызывалась на ночные дежурства, потому что любила тишину, прерываемую лишь криками ночных птиц, и особенно тот час, когда горизонт начинает белеть и занимается заря.
Мы походили на всех скаутов на свете, правда, вид у нас был несколько потрепанный. Но если прислушаться к песням, которые мы пели, собравшись, голодные, вокруг костра, то можно было понять, что мир, в котором мы жили, был не совсем обычным.
Положение каждого ребенка в России в те времена делало такую внутреннюю подготовку не излишней. Но мы не впадали от этих обстоятельств в безвольное оцепенение, которое так сильно и так бесплодно тяготело в течение двадцати лет над молодежью Запада после войны 1940 года. Близость смерти делала жизнь для нас еще ценнее, и в нашем кровавом мире мы продолжали смеяться и играть, когда оставалось на это время.
В одночасье у меня появилось много друзей, и я с удивлением обнаружила, что нравлюсь мальчикам. Меня приглашали на гимназические вечеринки, где под благосклонным взглядом бывших педагогов мы танцевали вальс под звуки рояля, в то время как вокруг нас война продолжала свои жестокие игры.
В парке встречались нам беспризорные дети — потерявшиеся, одинокие или, напротив, организованные в шайки и упорно стремящиеся выжить в этом безумном мире. С одним из них я подружилась. Его звали Яшка-князь. Лет ему было четырнадцать или пятнадцать, а прозвище «князь» он носил, вероятно, потому, что был грузином: в Грузии, как известно, достаточно иметь некоторое количество овец, чтобы зваться князем. Мать его умерла, и он, как и мы, застрял в Харькове, но твердо надеялся, что ему удастся разыскать своего отца — офицера, сражавшегося, по его предположению, в армии Деникина. Вид у Яшки был мало к нему располагающий, вооружен он был кинжалом с предохранителем. Он был предан мне душой и телом. Если бы я ему пожаловалась, что кто-то со мной плохо обошелся или меня оскорбил, то Яшка, я думаю, хладнокровно зарезал бы обидчика, хотя, живя вне закона, выходил за пределы парка лишь в исключительных случаях. Я одна знала, как его найти.
Дети и подростки, которым посчастливилось сохранить еще родителей и дом, собирались на корте спортивного общества. Приходили туда и польские скауты, и еврейские скауты «Маккаби» — ведь то была пора национального самоопределения. Бедные или богатые, мальчики и девочки, русские, евреи, поляки и украинцы — все мы исповедовали глубокие, хотя, возможно, еще юношеские антикоммунистические убеждения. Все мы успели пройти хорошую школу и знали, что при приближении незнакомца надо замолкать.
1919 год станет решающим в завязавшейся борьбе, и к нему подходят слова, сказанные Сталиным во время войны 1941–1945 годов: «Времени для жалости у нас нет». Продолжались расстрелы, в окрестностях города злобствовали бандиты. Как-то раз я встретила свою институтскую подругу. Ее тоже приютили чужие люди, что спасло ее от гибели. Вся ее многочисленная семья (мать, старшая сестра, младшие братья и сестры), жившая в домике на отлете, уже вне города, была перебита бандитами, которые отрезали груди у матери и у старшей сестры; самый младший, мальчик трех лет, был найден умирающим под креслом. Передо мной стояла Шура Перфильева, единственная уцелевшая, маленькая, худенькая, коротко стриженная после тифа, и я не могла смотреть ей в глаза, пока она мне рассказывала с неестественно неподвижным, как каменная маска, лицом, как была уничтожена вся ее семья.